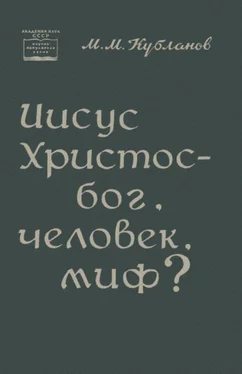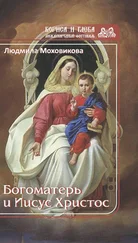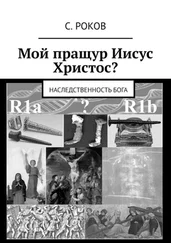Среди плеяды ученых, внесших свой вклад в научную критику новозаветной литературы, немало теологов. Многие из них стремились очистить христианство от нелепостей и противоречий и применить его к современным условиям. Однако объективно их критика помогла установить недостоверность евангельских сказаний, примеры которых мы приводили выше.
Предметом спора в упомянутой выше дискуссии является лишь вопрос о существовании или отсутствии в мифах о Христе некоего исторического зерна, вокруг которого затем и наслоились разнообразные легенды и различные идейные и религиозные учения, нашедшие свое литературное оформление и некий синтез в Новом завете.
С. И. Ковалев отвечает на этот вопрос отрицательно. Он отвергает реальное существование некоего маленького проповедника одного из локальных религиозных движений того времени, который затем, в процессе формирования христианства был превращен религиозным мифотворчеством в великую фигуру, утратившую земные и реалистические очертания. «Исторически, — заявляет С. И. Ковалев, — формирование христианства шло не от человека к богу, а наоборот, от бога к человеку» [168] А. Робертсон. Происхождение христианства, стр 22.
.
А. Робертсон отвечает на этот же вопрос положительно. Рациональное зерно могло быть, и его следует искать в социальных движениях в Палестине I в. н. э., связанных с эссенами. «Вокруг распятого вождя этого движения, — пишет он, — или, что более вероятно, вокруг слившихся легенд о нескольких вождях был создан первоначальный евангельский рассказ» [169] Там же, стр. 287.
. Отвечая на контраргументы своего оппонента, он в послесловии ко второму русскому изданию своей книги пишет: «Я не попал в эвгемерическую ловушку. Речь идет не об обожествленном человеке. Речь также не идет и об очеловеченном боге. Речь идет, как я пытаюсь разъяснить, о двух противоположных движениях: 1) о народном мессианизме, движении, которое „связывалось с именем то одного, то другого вождя и было в состоянии пережить смерть многих из них“ — одним из таких вождей был Иисус Назарянин, и 2) о мистическом культе „Христа Иисуса“, пропагандировавшемся Павлом и другими для противодействия народному мессианизму. Речь идет… об этих двух противоположных движениях… сливающихся в одно для того, чтобы выжить. Это объективное слияние противоположностей отражается в теологической догме о богочеловеке, который является не двумя, а одним Христом. Прекрасный урок диалектики, которым пренебрегают буржуазные ученые, но, разумеется, не марксисты!» [170] Там же, стр. 299.
.
Полемика С. И. Ковалева и А. Робертсона примечательна еще и в том отношении, что оба ученых — советский и английский — стоят на позициях материалистического понимания исторического процесса и что различные решения, выдвигаемые ими, идут в русле общей для обоих марксистской методологии.
В этой связи необходимо еще раз со всей определенностью подчеркнуть, что вопрос об историческом ядре евангельских персонажей не является ни решающим, ни первостепенным в идейной борьбе атеизма против богословия. Как раз апологетическое богословие стремится представить дело таким образом, будто в истории происхождения христианства центральным стержнем, причиной и следствием является Иисус Христос.
Личность Иисуса Христа, его смерть и воскресение являются «центром центра, собственным сердцем современного христианства», пишет современный православный апологет [171] Государственный музей истории религии и атеизма, Рукописный отдел, КОП, оп. № 195.
, отвергая тем самым самую постановку вопроса о социальных и идейных предпосылках этой религии. Его католический собрат также усматривает особенность первой христианской общины исключительно «…в том абсолютно центральном месте, которое занимает там личность Христа, его смерть и воскресение» [172] J. Daniélоu. Les manuscrits…, стр. 47.
.
Таких же взглядов в общем придерживается и ряд зарубежных клерикальных ученых, усматривающих в евангельском Христе с его «парадоксом воплощения», его воскресением и сотворенными чудесами центральный стержень истории христианства. «Я глубоко убежден, — пишет один из них, — что историческое явление бога в Иисусе из Назарета должно быть краеугольным камнем любой веры, если она действительно христианская» [173] М. Burrows. More Light on the Dead Sea Scrolls. N. Y., 1958, стр. 55.
.
Другой оттенок этой абсолютизации личности Иисуса заметен в словах современного зарубежного историка христианства, который писал, что «Иисус в свою эпоху стоял совершенно один среди своего народа. Он сражался с религией Торы. Но он закончил эту борьбу абсолютно одиноким, без всякого союза с какой-либо духовной или политической силой античного мира» [174] «Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in Zehn Bändern», IV. — «Römisches Weltreich und Christentum», Bern, 1956, стр. 308.
.
Читать дальше