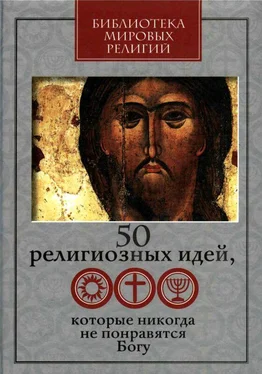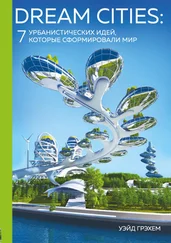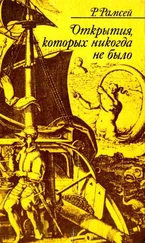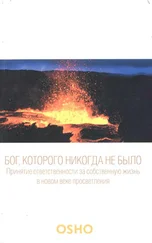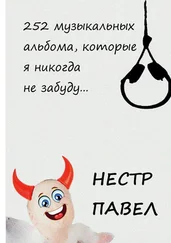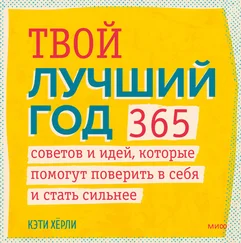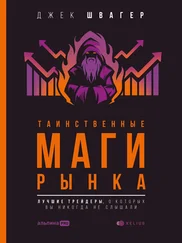Миф № 7. Католичество чуждо российской культуре [93] Станислав Козлов.
Часто считают, что российская культура сформирована исключительно под влиянием православия и византийской культуры. Одной из причин мнения о католичестве как явлении, чужом для России, является убеждение, что оно не привнесло ничего значимого в отечественную культуру.
Место католиков в культуре России и их роль в ее формировании и развитии по-настоящему не осмыслены до сих пор. До совсем недавнего времени такое осмысление (в силу ряда причин) было либо не востребовано, либо просто невозможно. В определенном, хотя и очень узком смысле, в настоящее время происходят изменения в подходах к этой проблеме. И все чаще звучат голоса, совершенно отрицающие какое бы то ни было целостное воздействие или влияние католической идеи или практики на становление и последующее формирование отечественной культуры.
Однако какую бы сферу культурной и общественной жизни страны мы не взяли — мы непременно убедимся в значительном вкладе отечественных католиков. Конечно, когда мы говорим о католическом участии в формировании отечественной культуры, нужно учитывать сразу два фактора. Во-первых, это католическая идея, влиявшая на нашу культуру как непосредственно (через богословие, философию, литургические обряды и прочее) [94] В связи с этим стоит упомянуть П.Я. Чаадаева и его «Философические письма». Автор, не будучи католиком, так остро поставил некоторые вопросы, что дискуссия на католическую тему благодаря ему продолжалась в России даже после смерти автора «Писем». Фактически он был самым ярким религиозным западником, оставшимся тем не менее православным. Его предшественник (хотя сходство между ними скорее формальное — и, до известной степени, они объединены некоторым сходством судеб — но не более), князь И.А. Хворостинин, в XVII столетии не был так последователен и колебался между своей любовью к латинскому христианству и полемической защитой отечественных обычаев.
, так и опосредованно (через переработку собственно латинских церковных особенностей отечественным православием, впитывавшим эти элементы — причем настолько активно, что XVIII — начало XX века иногда называют даже «западным пленением русской Церкви»). Во-вторых, это персональное участие тех или иных католиков (художников, архитекторов, ученых, литераторов и проч.) в культурном творчестве в нашей стране. Разумеется, многое из того, что заимствовалось, творчески переосмыслялось и преобразовывалось — и, таким образом, становилось неотъемлемой частью России и культуры ее народов.
В силу ряда причин литература для России значит много больше, чем для некоторых других стран, и отечественная классическая литература действительно сыграла значительную роль в формировании русского «мифа о себе». Разумеется, такое важное явление, как католичество, не могло не найти в ней отражения: и потому что Католическая церковь в силу своей мировой роли не могла остаться незамеченной, и потому, что католики играли все большую роль в жизни России. Хотя при этом, несмотря на пристальное и постоянное внимание, место католичества в литературе, разумеется, было все же маргинальным. На протяжении всего XIX столетия, на которое пришелся пик как бурного развития российской католической общины, так и расцвет отечественной классической литературы, постепенно ослабевало влияние христианства на русское общество. Это более чем очевидно. Отчасти этим объясняется и то скромное положение, которое католическая тема заняла в творчестве наших литераторов.
Впрочем, литературные связи между католической Европой и средневековой Русью имеют более давнюю историю, о которой необходимо сказать хотя бы несколько слов. Некоторые житийные памятники (жития свв. Людмилы, Вячеслава, Антония Римлянина и т. д.), паломнические «Хождения» (само слово «паломник» считается западным заимствованием) и тексты молитв («Молитва Св. Троице» и др.) — содержат более или менее заметные следы знакомства с латинской литературой или национальными литературами славянских католических стран, а иногда и прямые заимствования. Здесь следует особо упомянуть цикл текстов, связанных с праздником перенесения мощей св. Николая (это западный, в особенности итальянский, праздник, которого никогда не знала Греческая церковь).
В московский период эти связи также не были прерваны, хотя, как правило, западные заимствования проникали в Россию через белорусское и украинское посредство. Так, переведенные с латинского на белорусский вариант древнерусского языка в XV веке «Повесть о трех королях» и «Житие Алексия, человека Божия» были почти тотчас же переписаны в Московской Руси. Переиначенные польские слова и выражения содержит список Толковой Псалтири. В декабре 1627 года патриарх Филарет издал даже особый указ, запрещавший покупку западнорусских книг (из опасения проникновения «уницких прелестей»). Но и эта мера не смогла полностью пресечь белорусско-польское литературное проникновение.
Читать дальше