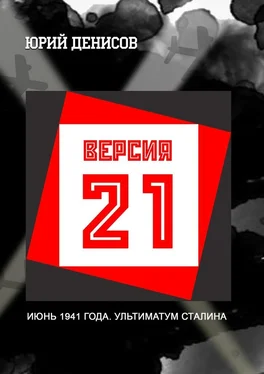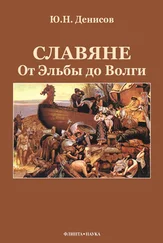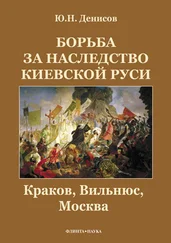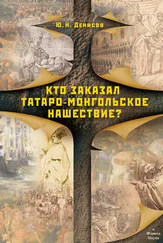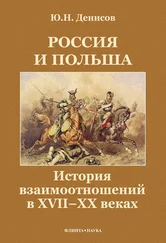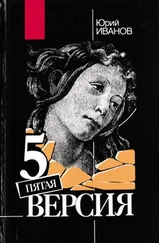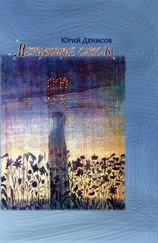Орлов, чтобы успокоить Ивана, обнял его за плечи и так же проникновенно сказал: «Спасибо, Иван, спасибо. Ну, что, самое время выпить за светлую память всех погибших героев, выпить красного вина за севастопольские красные маки, за души павших солдат и матросов».
Офицеры несколько мгновений помолчали, не чокаясь, выпили все до дна. Бобров, успокоившись, отправился по своим делам. Друзья, вдохновленные откровениями Ивана Николаевича, некоторое время поговорили о фильме. Фильм был снят в освобожденном Севастополе в 1944 году, и, конечно же, друзья, не один раз смотрели и не первый раз вспоминали о нем. Карамзин впервые увидел кинофильм «Малахов курган» в барачном клубе на далеком Колымском руднике Бутугычаг. Уже тогда задела детскую душу лирическая сторона фильма, отношения краснофлотцев с женой командира. На всю жизнь полюбился романс «Калитка» и, конечно же, потрясал подвиг. Победимцев впервые увидел фильм в училище. Он уже и тогда увлекался военно-морской историей и рассказал, как они увлеченно обсуждали фильм на кафедре военно-морской истории. Орлов, вспомнив тяжелое послевоенное детство, рассказал, как сильно его с товарищами впечатлил эпизод, когда наш красноармеец в атаке, вскочив на немецкий танк, бьет высунувшего из бокового люка немца прикладом с криком «За Родину!», а затем переворачивает винтовку и бьет немецкого танкиста штыком с криком «За Сталина!», «За Родину! За Сталина!» – так было в кино, но так было и в жизни. Но не всегда. Иногда в атаках, особенно – рукопашных, было больше мата, чем слов «Родина» и «Сталин». Победимцев, с неистребимым стремлением к критике, тихо промолвил, что в нашем русском последнем обиходе красные маки связываются с западной историей Первой мировой войны, и некоторые наши недоброжелатели за нашими границами используют красные маки как символы против наших сложившихся символов, против нашей красной гвоздики, к примеру. Во время создания фильма «Малахов курган» этой тенденции не было.
Орлов насупился и быстро проговорил: «Да, так случается, я это слышал и видел. Но вот тебе пример: все знают, что в августе 42-го года немецкие знамена и штандарты установили егеря горной дивизии „Эдельвейс“, но ведь известно, что в составе 49-го горного корпуса немцев на Кавказе была и вторая горная дивизия, которая именовалась „Гвоздика“. Так что ж, нам теперь не печатать гвоздики на наших открытках, не класть гвоздики к памятникам героев, не дарить гвоздики ветеранам? Так и с нашими красными маками. Красные маки были и должны остаться одним из символов героического Севастополя».
«Красное вино, красные маки, красная кровь» – пробормотал скороговоркой Победимцев. В таких разговорах время пролетело быстро. И как бы ни было интересно, пришла пора расставаться. Разлили вино и ударили на прощанье бокалами, провозгласив тосты: Орлов – «за вино и любовь!», Карамзин – «за радость и счастье!», Победимцев – «за здоровье и разум!» Такова была у них традиция. Друзья—товарищи понимали, что это мальчишество, но им это нравилось, и именно так они заканчивали свои встречи.
Друзья вышли в теплую плотную темноту севастопольской июньской ночи. Город, как обычно, был освещен плохо. Программа «Светлый город» не работала. Но друзья в своем любимом городе знали все, и это их не волновало. Остановили такси.
Карамзин посадил друзей в машину, Эдуарду – на улицу Хрусталева, Владимиру – в Балаклаву, а сам, по многолетней любимой привычке, решил прогуляться по ночному городу. Огоньки такси помигали и скрылись, а мысли Карамзина медленно и плотно наполнялись новой темой, новым исследованием. И вот – маленькое предзнаменование, перекресток улиц Октябрьского и Кулакова. Скрещение, соединение, пересечение в монолите города, историческая слитность в человеческих судьбах. Многое, очень многое в военной судьбе Севастополя зависело от этих людей. Вместе они готовили флот к войне. Вместе провели оборону города. Думая о первом дне войны, о первой военной ночи, Карамзин медленно двинулся домой.
Через несколько минут такси доставило Победимцева к его дому на улице Хрусталева и, крепко пожав руку Владимира, Эдуард вышел из машины. Здесь, в спальном районе города, был абсолютный мрак, но Эдуарду это нравилось и привело его душу в романтическое состояние. Спешить было некуда: и жена, и любимый дог Коба будут рады и ночному пришествию. Возбужденный встречей, Эдуард перевел дыхание и, как обычно при возвращении домой, перевел и поток сознания. Накатились быстрые мгновенные вспышки всей прошлой жизни. Какая была она? Военный блокадный Ленинград, квартира на улице Пестеля, ныне – Пантелеймоновской. Отец, морской офицер, редко бывающий дома, внимание и забота любимой матери, умная, трудолюбивая старшая сестра, и на всю жизнь – обаяние, величие и поэзия родного города. Утренние пробежки, Фонтанка, Цепной мост, громада Инженерного замка, Летний сад и Марсово поле, вечерние прогулки по набережной Фонтанки, часть пешеходного маршрута императора Александра I, тишина Соляного переулка, с послевоенным музеем блокады и героической обороны, и церковью Святого Пантелеймона, памяти всех военных моряков, погибших за Отечество в морях и океанах. В те времена она то открывалась, то закрывалась. Но рядом, на Литейном, – величественный Спасо-Преображенский собор с оградой из трофейных турецких пушек никогда не закрывался. И мать, тайком от отца и соседей по дому, водила своих детей в храм, не забывая Сталина и молясь Богу. А во время войны в нижнем храме собора было бомбоубежище, и матери с детьми приходилось там бывать очень часто, не забывая при этом получать благословение от отца-настоятеля. Эти образы запечатлелись в душе и сознании Эдуарда и сопровождали его всю жизнь.
Читать дальше