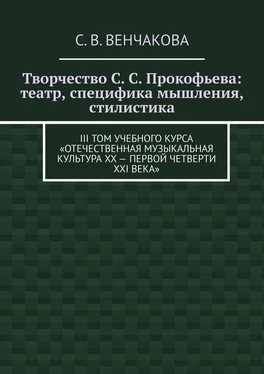1 ...7 8 9 11 12 13 ...27 4. Некоторые черты мелодики Прокофьева в контексте эволюции стиля
Многие исследователи полагают, что после возвращения в СССР, Прокофьев всерьёз размышлял о возможных путях развития русской музыки, причём его мысли не утратили своей актуальности и в условиях современной культуры: «Музыку прежде всего надо сочинять большую, т. е. такую, где и замысел и техническое выполнение соответствовали бы размаху эпохи… Она должна быть прежде всего мелодийной, притом мелодия – простой и понятной, не сбиваясь ни на перепевку, ни на тривиальный оборот… Простота должна быть не старой простотой, а новой простотой» [цит. по 8, с. 56].
Выдающиеся художественные открытия Прокофьева в области мелодики общепризнаны, хотя и в настоящее время служат объектом пристального внимания музыковедов всего мира. Потребовалось много времени, прежде чем новая простота интонационного содержания прокофьевской мелодики стала понятной слушателям. Сейчас композитор считается одним из непревзойденных лириков и мелодистов, а в его музыке присутствует то естественное свойство, родственное с восприятием классической музыки – выявление мыслей, чувствований и впечатлений от внешнего мира через мелодику. Музыковед М. Арановский [1], автор специального исследования «Мелодика С. Прокофьева», отмечает: «Прокофьев высоко ценил значение мелодического искусства именно в то время, когда в ряде направлений европейской музыке обозначился его кризис. Последовательное утверждение Прокофьева эстетической и формообразующей функции мелодии явилось реакцией на распад линии у Дебюсси и Скрябина, а в дальнейшем шло вразрез с устремлениями Шёнберга и его последователей. Более того, даже среди лидеров музыкального искусства XX века, не отказавшихся от мелодического тематизма в его различных проявлениях (Стравинский досерийного периода, Барток, Хиндемит, Онеггер, Шостакович), Прокофьев выделяется особым вниманием к кантилене. Ни у кого из них мелодия не приобрела столь важного композиционного значения и не заняла столь большого места в творческом процессе» [1, с. 3].
Позиция Прокофьева является позицией подлинного новатора, необычайно широко раздвинувшего возможности таких аспектов музыкального языка, как ритмика, лад, гармония, и прозорливо отстаивавшего непреходящую эстетическую ценность мелодии. «Его новаторство в этой области состояло не только в возрождении формообразующей функции горизонтали, но и в обновлении мелодии изнутри, её образного, интонационного, ладового строя. Переосмысляя традиционные элементы мелодической техники, он создал новый мелодический стиль , вызванный к жизни необходимостью воплощения нового содержания» [1, с. 4]. Работа М. Арановского посвящена одному из видов мелодики – кантилене, как наиболее яркому выражению мелодического начала в целом. Автор полагает, что именно кантилена содержит важнейшие художественные открытия композитора в области мелодики, и именно здесь обнаружилось своеобразие его мелодического мышления. В процессе непрерывной эволюции мелодический стиль Прокофьева включал всё больше элементов из «интонационного словаря», различные этапы развития включали и отношение Прокофьева к проблеме мелодического тематизма и его роли в структуре целого.
С позиции временной дистанции мелодика Прокофьева раннего периода творчества рассматривается как явление глубоко своеобразное, обладающее особыми стилевыми качествами. Исследователи полагают, что мелодика раннего периода подготавливает кантилену 30 – 50 годов. Мелодический стиль раннего Прокофьева нельзя изучать вне конкретной исторической ситуации и художественных тенденций, сложившихся в русском музыкальном искусстве в начале XX века.
В начале XX века следует отметить несколько ведущих тенденций, определивших некоторые перспективы развития европейской музыки: изменение логических и конструктивных возможностей гармонии (Вагнер); внефункциональное употребление гармонии в рамках утраты ладовых связей (Дебюсси); эмансипация диссонанса, приведшая к возникновению атональности (Шёнберг). Иные перспективы были связаны с усилением позиций лада и тематизма, что во многом определило облик музыки Бартока и сыграло огромную роль в становлении стиля Стравинского и Прокофьева. «Творчество Прокофьева обращено к живой реальности. Он прежде всего художник-наблюдатель. Его музыкальные идеи возникают из переработки жизненных впечатлений. Окружающее привлекает его богатством контрастов, характерностью каждого явления. Он ощущает вещность, физическую плотность всего сущего. Импрессионистской неопределённости он смело противопоставил материальность мира, передав её в рисунке фактуры, в „твёрдости“ гармонического начала, в динамике звукового потока, в ритмической энергии и мощи акустических объёмов» [1, с. 52]. Следует особо отметить роль рационалистического начала в творческом процессе Прокофьева, сказавшегося главным образом в структурном мышлении и в строгой графике линеарной ткани. Раннее творчество Прокофьева характеризуется созданием резко контрастных произведений – эксцентричного балета «Шут» и лирического Первого скрипичного концерта; «варварской» Скифской сюиты («Ала и Лоллий») и Классической симфонии; буффонады «Любовь к трём апельсинам» и остропсихологической оперы «Игрок». Вместе с тем, именно на раннем этапе творчества формировались некоторые доминирующие линии, определившие впоследствии место Прокофьева в истории русской музыки. Следует говорить о сказочно-эпической линии: балет «Сказка о шуте…» (1920), Второй (1923) и Третий фортепианные концерты (1917 – 1921), «Сказки старой бабушки» (1918). Неуклонно возраставший интерес к психологическим коллизиям и разным человеческим характерам привёл к созданию опер «Маддалена» по пьесе М. Ливен (1913), «Игрок» по Ф. Достоевскому (1915 – 1916), цикла «Гадкий утёнок» по Г. Андерсену (1914), цикла «Сарказмы» (1912 – 1914). Лирическая линия творчества проявилась в произведениях: «Мимолётности» (1915 – 1917), Вторая (1912) и Третья (1907) фортепианные сонаты, Первый скрипичный концерт (1916 – 1917). Впоследствии именно на этой лирической основе возникнут женские образы-портреты: Джульетта, Золушка, Наташа Ростова.
Читать дальше