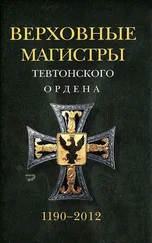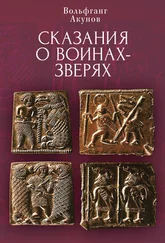«Das soll, so Gott will, nicht geschehen, denn wo so mancher braver Ritter neben mir gefallen ist, will ich nicht aus dem Felde reiten». («Этого, по воле Божией, не произойдет, ибо я не ускачу с поля, на котором рядом со мной пало так много бравых рыцарей»).
Согласно другой версии, гохмейстер сказал: «Не дай Бог мне бежать с этого поля, на котором пало так много храбрых мужей, не дай Бог!»
Решение Верховного магистра лично возглавить последнюю атаку, возможно, было наилучшим в сложившейся ситуации, в которой у поляков, как казалось магистру, больше не оставалось резервов. Решение начать отступать через лесистую местность, будучи преследуемым численно превосходящим неприятелем, на усталых конях, могло привести к полному хаосу и окончательной катастрофе. Противники ордена Девы Марии были также предельно истощены многочасовым сражением. Поэтому гохмейстер «мариан» вполне мог рассматривать последнюю, отчаянную атаку, в качестве оптимального варианта добиться успеха в последние минуты битвы.
Правда, существует и еще одно объяснение. Гохмейстер «тевтонов», которому грозила слепота, предпочел погибнуть в бою, подобно большому другу и покровителю «мариан» – бывшему королю Чехии и императору Священной Римской империи Иоанну (Яну) Люксембургскому (отцу упоминавшихся выше королей Вацлава Чешского и Сигизмунда Венгерского), который, ослепнув, погиб в битве при Креси (1346), сражаясь в ней простым рыцарем в рядах французов против англичан. Однако это предположение представляется нам чересчур «романтическим».
Магистр призвал к себе последний резерв войска Тевтонского ордена – 2000 рыцарей и конных воинов Кульмской земли, ожидавших в районе деревни Грюнфельде, когда придет наконец их черед вступить в бой. Вокруг этого «ядра» были собраны все отряды, еще сохранившие боеспособность. Гохмейстер, лично возглавив этот «последний батальон», обогнул поле боя, заполненное яростно рубящимися бойцами обеих армий, и провел свою штурмовую колонну слева мимо деревни Танненберг. Вероятно, он намеревался, совершив этот обходный маневр, добраться до Ставки польского короля и решающим ударом своих конных латников добиться победы. Видимо, так оно и было – иначе явно перепуганный Ягелло не приказал бы своему знаменосцу-хорунжему спешно спустить королевское знамя. Кроме того, можно предположить, что Ульрих фон Юнгинген надеялся собрать в этой части поля боя остатки возвращавшихся войск маршала Валленроде и усилить ими свой ударный отряд. Удар бронированной колонны гохмейстера «тевтонов» ошеломил польские отряды. Поначалу польские витязи подумали, что литовские беглецы вернулись на поле брани и снова вступили в бой. Именно этим, вероятно, объясняются крики поляков (введенных в заблуждение еще и тем, что многие «тевтоны» были вооружены не тяжелыми рыцарскими копьями и традиционными западноевропейскими щитами, а легкими литовскими сулицами и упоминавшимися выше литовскими павезами, то есть заимствованными у пруссов и литовцев облегченными щитами характерной формы с выступающим продольным ребром): «Литва возвращается!» На самом деле «Литва» отнюдь не «возвращалась», а продолжала улепетывать к родным пенатам. Однако в самый разгар этой последней атаки знаменосец-«баннерфюрер» светских рыцарей – вассалов ордена – из Кульмской земли, Никкель фон Реннис (как мы помним, являвшийся «по совместительству» главой «Союза Ящериц»), совершил акт подлой измены, опустив знамя своей «хоругви» и подав тем самым сигнал к отступлению. Сам он, вместе с частью кульмских рыцарей, оруженосцев и воинов, не вступив в бой с врагом, трусливо (а вероятнее всего – даже не трусливо, а изменнически) бежал с поля сражения. Прочие рыцари и воины орденской армии, увидев сигнал к отступлению, смешались и также обратились в бегство.
По каким-то причинам об этом прискорбном для ордена Девы Марии и позорным для его кульмских вассалов эпизоде не пишут ни Ян Длугош, ни Генрик Сенкевич, ни Разин, ни Строков, ни многие другие.
Невзирая на всеобщее смятение, гохмейстер попытался придать последней атаке «тевтонов», обреченной на неудачу, новый импульс, вступив в единоборство с польским рыцарем Добеславом (Добко) Олесницким (от копья которого и пал – правда, по одной из наименее распространенных версий). Согласно Длугошу, Добко побоялся напасть на Верховного магистра, увидев на груди у того поверх лат золотой ковчежец со святыми мощами (или с частицей Животворящего Креста Господня), и отступил, после того как гохмейстер ранил копьем его коня (эту версию в несколько измененном варианте повторяет и Генрик Сенкевич в «Крестоносцах»). Какое-то время казалось, что последний удар рыцарей Девы Марии увенчается успехом. Увидев в ходе боя польского короля, тевтонский рыцарь Дибольд фон Кёкериц (у Длугоша и Сенкевича – Дипольд Кикериц фон Дибер) бросился на Владислава Ягелло с копьем наперевес. Однако этот храбрый рыцарь (являвшийся по происхождению то ли мейссенским немцем, то ли лужицким сорбом, т. е. славянином – Длугош приводит обе версии) был сбит с коня королевским писцом Збигневом Олесницким (напавшим на него сбоку) и добит королевскими телохранителями (в романе Сенкевича «Крестоносцы» Дибольд фон Кикериц был сражен ударом копья в лоб, нанесенным ему собственноручно королем Владиславом Ягелло).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
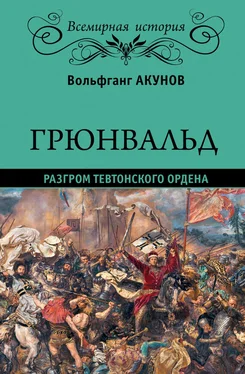


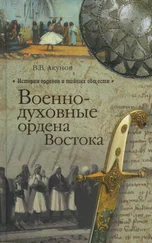
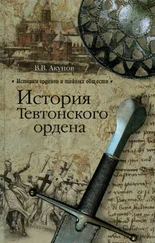



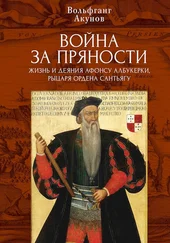
![Вольфганг Акунов - Держава Тевтонского ордена [litres]](/books/431069/volfgang-akunov-derzhava-tevtonskogo-ordena-litre-thumb.webp)