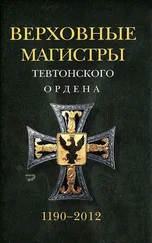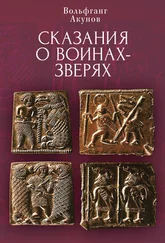12. В преддверии решающей битвы
24 июня 1410 г., по истечении срока перемирия, военные действия между Тевтонским орденом и польско-литовской коалицией возобновились. Комтуры Шлохау и Тухеля совершили набеги на соседнее польское приграничье. В ответ польские отряды разграбили район Торна. Ягелло принял в Вольбоже венгерских послов графа Николая (Миклоша) де Гара (Гарая) и Стибора (Сцибория) из Стибориц (Сцибожиц), предложивших ему, в надежде на возможность прочного мира, заключить новое, на этот раз десятидневное, перемирие сроком до вечера 4 июля. Ничего лучшего польский король и пожелать не мог. Перемирие предоставило ему возможность спокойно стянуть в кулак все свои силы, не опасаясь орденских войск.
И польско-литовская армия была стянута им в кулак – причем с планомерностью, далеко превосходившей сравнимые достижения других военачальников Средневековья. Король Владислав Ягелло выступил 26 июня из Вольбожа, 28 июня прибыл в Самице, 29 июня – в Козлов. На следующий день он расположился со своей штаб-квартирой в Червенском (Червиньском) монастыре. С юга на помощь королю подошли войска из Малой Польши, объединившиеся еще ранее с пришедшими им на помощь отрядами из Подолья (Подолии), Валахии и Бессарабии. С запада подошли войска из Великой Польши, форсировавшие Вислу по понтонным мостам, построенным из связанных вместе речных судов. С востока, продвигаясь вдоль реки Нарев, подошли литовцы, жмудины, татары Витовта и Джелал-эд-Дина, а также русские отряды из Киева и Смоленска. 29 июня они переправились через Нарев. На севере мазовецкие войска только и ждали приказа соединиться с главными силами.
При оценке этих событий следует учитывать специфические условия Средневековья. Тогдашние военачальники действовали порой импульсивно и эмоционально, но зачастую вполне логично и обдуманно. Гохмейстер получал противоречивые известия. Согласно одним донесениям, литовцы собирали свои силы на востоке, а поляки – на западе. 27 июня прибыл гонец из Кёнигсберга, сообщивший, что сильные литовские отряды вторглись в район Мемеля, подвергая его опустошению. Аналогичное известие пришло из Рагнита. Польско-литовский план сбить гохмейстера «тевтонов» с толку отвлекающими маневрами увенчался успехом. Значительные орденские силы были оставлены на востоке Пруссии, чтобы отразить ожидавшиеся новые неприятельские набеги. В этой связи Великому князю Витовту удалось заключить с ливонским ландмейстером новое соглашение, согласно которому Литва и Ливония обязывались не расторгать заключенный между ними ранее мирный договор в течение трех месяцев. Заключение этого соглашения объясняется вовлеченностью ливонского филиала Тевтонского ордена в конфликт с Псковом и Новгородом. В этих условиях ландмейстер Ливонии предпочел нейтрализовать литовцев, чтобы избежать войны на два фронта. Тем не менее перед судом истории виновность Конрада фон Фитингофа не подлежит сомнению – он открыто нарушил приказ своего высшего начальника, Верховного магистра Ульриха фон Юнгингена, сделав тем самым возможной беспрепятственную концентрацию польско-литовских войск перед началом наступления на орденскую Пруссию.
2 июля 1410 г. основные силы Ягелло и Витовта соединились, и союзное польско-литовское войско выступило в поход на север. За армией польско-литовской коалиции следовал громадный обоз, поскольку награбленных в Пруссии съестных припасов для снабжения огромного войска не хватало. Поэтому пришлось везти с собой на многочисленных телегах провиант. Большой обоз затруднял и замедлял продвижение войска. С наступлением вечера марш прекращался, и армия разбивала лагерь, окруженный укреплением из обозных телег («табора», «товара», или, по-немецки, «вагенбурга») для защиты лагеря от ночного нападения неприятеля. Опытный и осмотрительный полководец, Ягелло старался свести угрожавшие его войску опасности к минимуму. Ввиду лучшего знания «тевтонами» прусского театра военных действий («дома даже стены помогают») польский король постоянно опасался засад. Что же касается Ульриха фон Юнгингена, то гохмейстер «тевтонов» был опытным воином, отвага которого перед лицом неприятеля была общеизвестна (даже Генрик Сенкевич назвал его в одном месте своего романа «благородным магистром»). Однако, с учетом его импульсивности, судьба кампании во многом зависела от способности Верховного магистра, не поддаваясь на провокационные методы ведения войны противником, не принимать поспешных, необдуманных решений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
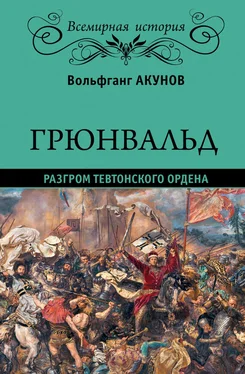


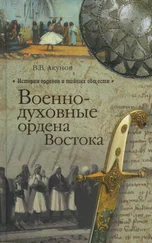
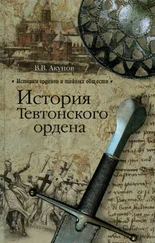



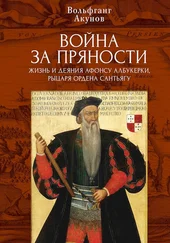
![Вольфганг Акунов - Держава Тевтонского ордена [litres]](/books/431069/volfgang-akunov-derzhava-tevtonskogo-ordena-litre-thumb.webp)