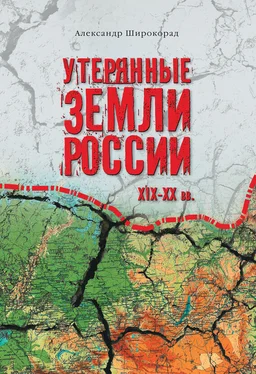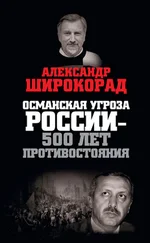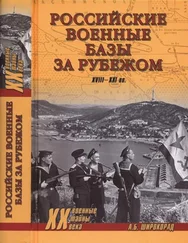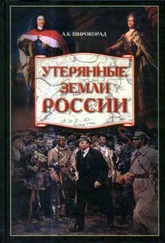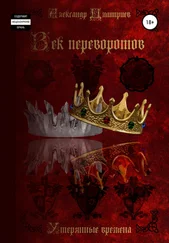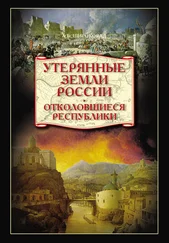Между тем не только сановники, но и большая часть либеральной интеллигенции поддерживала германское засилье в Прибалтике. Еще в 1883 г. Н. С. Лесков в статье «Русские деятели в Остзейском крае» писал: «Правитель… обязан заботиться, чтобы всякий племенной антагонизм смешанного населения не усиливался, а сглаживался и чтобы все равно чувствовали справедливость в беспристрастии правящей власти… История русской администрации в Остзейском крае имеет немало доказательств, что предпочтения как в ту, так и в другую сторону приносили гораздо более вреда, чем пользы» [346].
Браво, Лесков! Все произошло с точностью до наоборот!
В связи с наступлением немцев по приказу генерала М. В. Алексеева началось выселение неблагонадежных немцев из района, занимаемого 10-й армией. Их вывозили в тыловые губернии и расселяли там под негласным наблюдением полиции. Так, по приказу военных властей население прибалтийской колонии Штоксмангоф (350 немецких семейств) отправили в Пермскую губернию «за явно враждебное отношение к российским войскам и из опасения шпионажа и содействие противнику» [347].
Высылка немцев шла из рук вон бестолково. Как писала А. Ю. Бахтурина: «Одинаково негативную реакцию вызывали и высылка и аресты в крае, и отмена таких распоряжений, являвшаяся фактическим признанием того, что военные власти творят произвол» [348].
В 1915 г. главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич приказал Курлову выселить из Курляндской губернии всех евреев, невзирая на пол, возраст и положение. Поводом для этого послужила гибель русского отряда под Шавлями. Почему-то командование решило, что внезапное нападение немцев стало возможным благодаря еврейским шпионам. Курляндская губерния входила в черту еврейской оседлости, так что предстояло выслать большую часть населения губернии, в том числе и врачей из лазаретов и госпиталей. И только по ходатайству Курлова Николай Николаевич отменил свой приказ.
8 сентября 1915 г. главнокомандующий Северным фронтом генерал Н. В. Рузский отправил в Совет министров телеграмму с предложением заменить всех немцев, занимавших в Прибалтике административные должности, русскими, что было необходимо для успокоения латышей. Совет министров обсудил это предложение, и выяснилось, что тогда придется заменить половину состава всей администрации прибалтийских губерний. В результате это предложение так и не было реализовано.
В 1915 г. правительство решило провести эвакуацию из Курляндии ряда заводов, имевших важное оборонное значение. Но и это мероприятие царские бюрократы фактически провалили. Эвакуация шла почти в идеальных условиях. Немецкие войска продвигались крайне медленно. Так, в июле 1915 г. фронт шел по линии Газенпот – Ковно, но через полгода фронт проходил по линии Митава – Двинск. Германская авиация не препятствовала эвакуации.
П. Г. Курлов, один из главных организаторов эвакуации, уже в эмиграции писал: «Станки разных заводов смешивались… Внутри империи эти заводы [то есть эвакуированные. – А.Ш. ], вопреки утверждению генерала Беляева в совещании, восстановлены не были и часть станков совершенно пропала и даже была выброшена из вагонов» [349].
Еще в июне 1915 г. на всей оккупированной территории Белоруссии, Литвы и Курляндии по приказу фельдмаршала Гинденбурга была создана «Область восточного управления». Армия сосредоточила в своих руках практически всю власть, а гражданское управление частично возлагалось на органы самоуправления, созданные из местных прибалтийских немцев.
В сентябре 1917 г. литовские националисты в районах Литвы, оккупированных немцами, создали совет («Летувос тарибу») во главе с Антанасом Сметоной. Совет этот контролировали оккупационные власти. 11 декабря 1917 г. «тариба» провозгласила восстановление Литовского государства и приняла акт «О вечных союзных связях Литовского государства с Германией», которые должны были быть подкреплены военной конвенцией о транспортном сообщении, таможенным союзом и введением единой валюты.
В оккупированной части Латвии немцы не стали поначалу создавать какие-либо органы самоуправления, вся власть была сосредоточена в руках германских военных комендантов.
Сразу же после Февральской революции все царские чиновники, представлявшие царскую власть, бежали из Латвии. Но чтобы «свято место» не пустовало, Временное правительство назначило исполняющим обязанности комиссара по Лифляндской губернии адвоката Красткална.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу