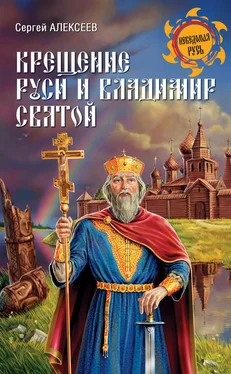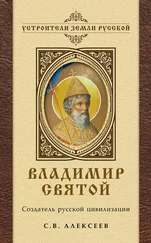Здесь уместно наконец сказать и о том, как появилась столь прочно вошедшая в русскую историческую память «корсунская легенда». В ее возникновении не было никакого злого умысла или стремления к фальсификации. Естественно, что разные местности на протяжении всего следующего века соперничали за право быть местом крещения Владимира. Так, жители Василева, первого города, названного в честь святого покровителя князя, верили, что Владимир крестился у них – хотя Василева на тот момент еще и существовать не могло. Возможно, впрочем, что здесь отразилась какая-та легенда о крещении на месте Василева, на реке Стугне, по пути к Днепровским порогам. Подобные предания рождались из ошибочных рассуждений, а не из сознательного вымысла.
Свое предание о крещении Владимира имелось и в Крыму. В Херсонесе и Керчи уже спустя уже одно-два поколения уверились, что Владимир-христианин не стал бы вести войну с Византией. К тому же крещение князя оказалось плотно увязано в устной исторической памяти с его женитьбой на византийской царевне – как и у арабских христианских историков XI века. А поскольку бракосочетание свершилось в Херсонесе, то и крещение перенеслось туда. Мотив же болезни князя соединил церковную формулу освобождения новообращенного от духовной «слепоты» с преданием соседнего Сурожа о древнем русском князе Бравлине. Тот на рубеже VIII–IX веков захватил и разграбил Сурож, но, сраженный грозным чудом покойного епископа, святого Стефана Сурожского, крестился и заключил с городом мир.
Так родилось «Слово о том, как крестился Владимир, взяв Корсунь». Само название этого памятника – явная полемика с другими версиями. В 70-х или в начале 80-х годов XI века он вошел в Начальную летопись благодаря известному переводчику и писателю Никону Великому, долго прожившему в Тмутаракани. Он был по крайней мере одним из создателей древнейшего нашего летописания. Не исключено, что Никон сам и написал на основе крымских преданий «Слово», а потом его дополнял и редактировал для включения в летопись. В Начальной летописи, наряду с кратким упоминанием «неправых» киевской и василевской версий, присутствует еще и изначальная запись о крещении Руси под 989 годом. Из Повести временных лет, как уже говорилось, она исчезла – и «корсунская легенда», войдя в позднейшие летописи и в жития, стала единственной устоявшейся версией крещения Владимира на долгие века, до тех пор пока историки Нового времени не обратились к трудам Илариона и Иакова.
«Корсунская легенда» имела и еще одно основание. Владимир не объявил широко о своем крещении и не решился пока взяться за крещение Руси. Он понимал, что в отсутствие многочисленного духовенства и прочной опоры в дружине такая попытка закончится неудачей. Не исключено, что большинство русов действительно узнало о христианстве князя только после похода на Корсунь. Так что легенда могла иметь прочные корни в преданиях Руси.
Итак, Владимир крестился – и теперь ждал возможности создать Русскую церковь. В Киеве не было епископа, и Владимир обратился к императорам с просьбой прислать на Русь нового предстоятеля, а с ним и других священнослужителей. Статус новой епархии, подчиненной Константинополю, должен был повыситься – с IX века Русь числилась там архиепископией. С тем он по весне и отпустил византийское посольство.
Следом он выступил сам. За Русское море на помощь императорам отправлялось шеститысячное войско. Владимир проводил полки сам до Днепровских порогов. Он отогнал от Днепра постоянно залегавших путь печенегов и встал в порогах, ожидая прибытия архиепископа и новой, христианской супруги. Войска проследовали далее и вскоре явились к императорам. Василий и Константин, готовившиеся к решающей схватке с Фокой на самых подступах к Константинополю с азиатской стороной, приняли помощь с радостью. Силы европейских провинций сосредотачивались вокруг столицы. Фока подтягивал свои. Враги выжидали, стягивая резервы, и в 988 году генерального сражения так и не произошло.
Владимир между тем ждал в порогах. Византийцы, получив все обещанное, выполнять обязательства, казалось, не торопились. Владимир не мог и вернуться в Киев – путь по Днепру для Анны без княжеской дружины был бы очень опасен, поскольку печенеги сразу возвратились бы к порогам. Так прошло лето. Владимир не дождался ни архиепископа, ни Анны. И понял, что обманут.
Справедливости ради надо отметить, что епископа на Русь Василий все-таки послал. Он перевел на вновь создаваемую русскую митрополию управлявшего до тех пор Севастийской епархией в мятежной Малой Азии Феофилакта. Митрополит Феофилакт, близкий к императору и выполнявший разного рода его поручения, должен был как-то потянуть время и смягчить домогательства Владимира. Но на Русь он не доехал. По пути Феофилакта схватили и жестоко убили враждебные Империи болгары царя Самуила. Хитроумная дипломатическая интрига, в чем бы они ни заключалась, провалилась. Василию ничего не оставалось, как тупо тянуть время, оставляя Владимира безо всяких вестей. В Малой Азии шли бои, и русский корпус был по-прежнему нужен.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу