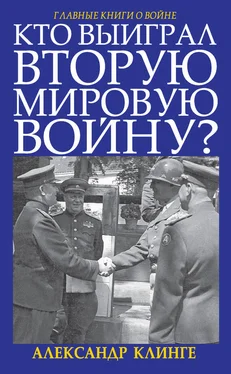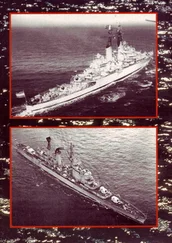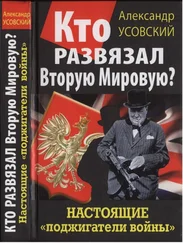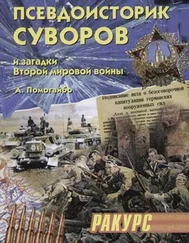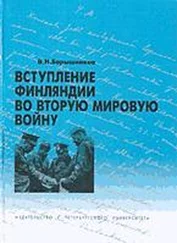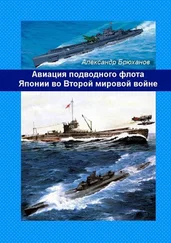Дмитрий Федорович Лоза, прошедший практически всю войну на импортных танках, вспоминал о «Шермане»:
«Украинская осень сорок третьего года встретила нас дождем и мокрым снегом. Ночью дороги, покрываясь крепкой ледяной коркой, превращались в каток. Каждый километр пути требовал затраты немалых сил механиков-водителей. Дело в том, что траки гусеницы «Шермана» были обрезиненные, что увеличивало срок их эксплуатации, а также снижало шум движителя. Лязг гусениц, столь характерный демаскирующий признак «тридцатьчетверки», был практически не слышен. Однако в сложных дорожно-ледовых условиях эти гусеницы «Шермана» стали его существенным недостатком, не обеспечивая надежной сцепки траков с полотном дороги. Танки оказались поставленными на «лыжи».
В голове колонны двигался первый батальон. И хотя обстановка требовала поторапливаться, скорость движения резко упала. Стоило механику-водителю чуть нажать на газ – и танк становился трудноуправляемым, сползал в кювет, а то и становился поперек дороги. В ходе этого марша мы на практике убедились, что беда в одиночку не ходит. Вскоре выяснилось, что «Шермана» не только «легкоскользящие», но и «быстроопрокидывающиеся». Один из танков, заскользив на обледенелой дороге, ткнулся внешней стороной гусеницы в небольшой бугорок на обочине и мгновенно завалился на бок. Колонна встала. (…)
Командиры машин и механики-водители, видя такое дело, начали «ошпоривать» гусеницу, накручивая на внешние края траков проволоку, вставляя в отверстия движителя болты. Результат не замедлил сказаться. Маршевая скорость резко увеличилась. Переход закончили без приключений… В трех километрах севернее Фастова бригада оседлала шоссе, идущее на Бышев. (…)
Ремонтные подразделения бригады и батальонов в спешном порядке (в любой момент может последовать приказ на совершение нового марша) начали наварку шпор на гусеницы. Со всеми командирами танков, механиками-водителями и их помощниками была проведена разъяснительная работа о причинах неустойчивости «эмча», которых было три: значительная высота танка (3140 мм), его небольшая ширина (2640 мм), высоко расположенный центр тяжести. Такое невыгодное соотношение тесно взаимосвязанных характеристик и сделало «Шерман» довольно валким. Подобного с Т-34 никогда не случалось, поскольку он был ниже американского танка на 440 мм и шире на 360 мм.
Надо сказать, что при штабе 5-го механизированного корпуса находился представитель фирмы – изготовителя танков. Он скрупулезно собирал и учитывал все выявленные в ходе эксплуатации недостатки «эмча» и по своим каналам сообщал о них руководству фирмы. Память не сохранила его фамилию, помню только, что мы все звали его Миша. На встречах однополчан частенько вспоминаем, как Миша, увидев механика-водителя, пытавшегося ключом или отверткой что-то подкручивать, к примеру, в моторном отделении, строго выговаривал: «Здеси заводски пломбы – ковыряти нельзя!» Да и не нужно там «ковыряти» – в пределах нормативного ресурса машины работали как прекрасный хронометр.
Миша был сильно огорчен тем, что «Шермана» в движении так плохо себя вели. Он не мог спокойно смотреть на «операцию» по улучшению ходовых качеств «дитяти» его фирмы, и уже где-то в феврале сорок четвертого года к нам в бригаду прибыли новые танки, в запасном комплекте инструментов, электролампочек и предохранителей которых находилось 14 запасных траков, «ошпоренных» в заводских условиях».
Подводя итог, необходимо отметить, что в целом полученные по ленд-лизу танки уступали знаменитому Т-34 по наиболее важным показателям. О советских тяжелых танках (в первую очередь ИС) и вспоминать не приходится. Они также заметно проигрывали в сравнении не только с «Пантерами» и «Тиграми», но и с поздними модификациями Pz.IV. Сказать, что вклад английских и американских машин в успехи советских танковых войск был значительным, нельзя.
В то же время трудно обвинить западных союзников в том, что они сознательно поставляли в СССР не слишком эффективную технику. Советские танкисты получали те же образцы техники, что и их британские и американские коллеги. Отнюдь не желание «сбагрить некондицию», а объективные недостатки английского и американского танкостроения, особенно в начальный период войны, привели к тому, что получаемые по ленд-лизу машины в большинстве своем не оставили серьезного следа в боях на советско-германском фронте.
Несколько иной была ситуация с авиацией. Как уже говорилось выше, в годы войны было получено более 18 тысяч самолетов (14 тысяч американских и 4 тысячи английских). Это составляло 15 % от советского производства. В большинстве своем это были истребители, хотя и бомбардировщики также были представлены в достаточно большом количестве. Пик поставок авиационной техники пришелся на 1943–1944 годы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу