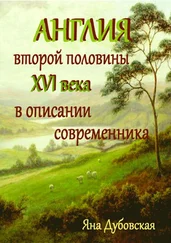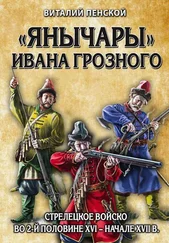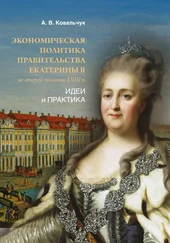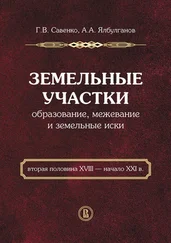Казанское «взятье» выдвинуло воеводу, находившегося в самом расцвете сил (ему было тогда около 40 лет), в узкий круг высших военачальников Русского государства. Вся его последующая карьера проходила на «берегу» (за исключением периода с осени 1562 г. по 1565 г., когда князь находился в опале и в ссылке). На протяжении почти 20 лет князь попеременно, в зависимости от подбора воевод на командование полками в очередной кампании, был первым или вторым воеводой большого полка или же первым воеводой передового полка либо полка правой руки. Не вполне доверяя князю 36, Иван Грозный тем не менее признавал за ним огромный опыт «польской» службы – вряд ли случайным было решение царя назначить именно Воротынского 1 января 1571 г. «ведати станицы и сторожи и всякие свои государевы полские службы» 37. В трагические майские дни 1571 г. М.И. Воротынский, командуя передовым полком земской рати, единственный из всех воевод не только сумел сохранить боеспособность вверенных ему сил, но и «провожал» крымского царя от московского пепелища до самого Поля.
Можно привести и другие подобные примеры, однако, похоже, в случае Воротынского, как и во многих других, отсутствие нужного теоретического и порой практического опыта компенсировались в известной степени природной сметкой и талантом. А опыт приходил со временем, по мере возмужания воеводы. Но в таком случае возникает другой вопрос – кто же тогда был хранителем тех самых традиций, о которых говорил Михневич, кто был ядром войска, «дядькой» при молодых аристократах, постигавших на практике азы военного искусства? И здесь напрашивается предположение, что главная тяжесть войны ложилась на плечи среднего и низового командного звена русского войска. И снова одна весьма примечательная цитата. Имперский посланник С. Герберштейн, человек весьма осведомленный и наблюдательный, неоднократно бывавший в России при Василии III, характеризуя татарские военные обычаи, писал, что «когда им (татарам. – В. П. ) приходится сражаться на открытой равнине, а враги находятся от них на расстоянии полета стрелы, то они вступают в бой не в строю, а изгибают войско и носятся по кругу, чтобы тем вернее и удобнее стрелять во врага. Среди таким образом (по кругу) наступающих и отступающих соблюдается удивительный порядок. Правда, для этого у них есть опытные в сих делах вожатые (ductores – такой латинский термин использовал Герберштейн. – В. П. ), за которыми они следуют. Но если эти (вожатые) или падут от вражеских стрел, или вдруг от страха ошибутся в соблюдении строя, то всем войском овладевает такое замешательство, что они не в состоянии более вернуться к порядку и стрелять во врага» 38.
В этой фразе обращает на себя внимание чрезвычайно важная роль татарских ductores’ов! Ведь выходит, что на поле боя именно татарские командиры низшего и среднего звеньев – главные организаторы победы, от их действий, от их умений и навыков вождения своих людей на поле боя зависит если не все, то очень и очень многое. Но недаром русская поговорка говорит, что с кем поведешься – от того и наберешься (или другой ее вариант – скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты). Во второй половине XV – начале XVI в. процессы «ориентализации» тактики, стратегии и обусловленного ими комплекса вооружения русского войска, в особенности поместной конницы, зашли настолько далеко, что, по большому счету, в глазах тех же иностранных наблюдателей между татарским и русским воином не было никакой существенной разницы. Следовательно, можно с уверенностью утверждать – то, что говорят о татарах, приложимо и к русским. И напрашивается вывод: главная тяжесть что «большой», что «малой» войны ложилась на плечи среднего и низового командного звена русского войска. Именно они, вторые и третьи полковые воеводы, головы сотенные и стрелецкие, казацкие и «у наряду», опытные ветераны и настоящие профессионалы, закаленные во множестве походов и схваток, неоднократно рисковавшие своей головой, находившиеся в самой гуще схватки, непосредственно руководили рядовыми бойцами и обеспечивали «большим» воеводам и возможность на практике усвоить военные премудрости и завоевать победу.
Эти «центурионы» Третьего Рима, подолгу командуя тактическими подразделениями стрельцов, казаков или детей боярских, регулярно вступали в боевое соприкосновение с неприятелем, причем на разных направлениях и на разных ТВД, накапливали огромный практический опыт ведения боевых действий разнообразного характера – здесь и набеги, и участие в «прямом деле», и осады, и пр. Да, они, в силу своего «худородства», как и настоящие римские центурионы, не могли рассчитывать (за очень, очень редким исключением) на воеводские должности (разве что наместником где-нибудь на далекой окраине, в захудалой небольшой крепостце или остроге или, в лучшем случае, могли стать одним из воевод «лехкой» или «плавной» рати, быть в которой для знатного московского аристократа было бы «невместно»). Но от них, как от татарских ductores’ов, во многом зависел на деле исход сражения и кампании в целом как суммы сражений и схваток. Еще раз подчеркнем – на наш взгляд, именно их опыт и выучка давали возможность таким людям, как И.Д. Бельский или М.И. Воротынский, не только на практике овладеть необходимым минимумом практических знаний, но и, в случае необходимости, исправить ситуацию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу