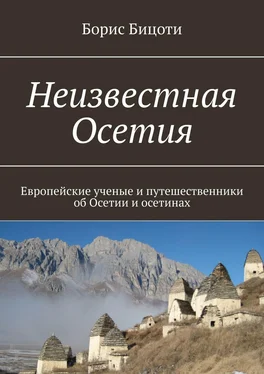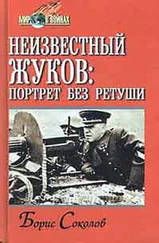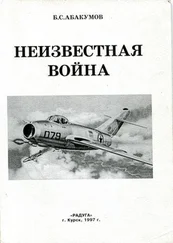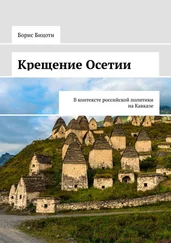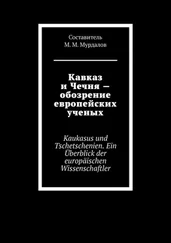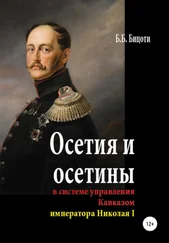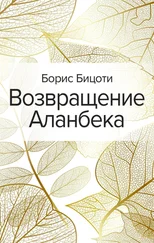Из принципиальных терминологических проблем нужно, в первую очередь, назвать теорию древней индогерманской общности, в парадигме которой мыслили многие европейские исследователи Кавказа. Осетины и их язык в этом контексте давали повод для обширных спекуляций на тему обоснования существования такой общности в глубоком прошлом. О появлении данной теории нам сигнализирует, к примеру, примечание Клапрота к трудам Яна Потоцкого. «В настоящее время, – пишет Клапрот, – общим названием для иафетических языков является термин индогерманские языки». 1 1 Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucase: Histoire primitive des peuples qui ont habité anciennement ces contrées. Nouveau périple du Pont-Euxin… Ouvrages publiès et accompagnés de notes et tables, Volume 1. p. 15
Проблематичность такой формулировки стала очевидна уже на ранних стадиях разработки теории. К моменту публикации статьи об осетинском языке австрийского лингвиста Фридриха Мюллера народ-предок большинства европейских этносов принято было называть индоевропейцами – эта формулировка приживается уже у А. М. Шёгрена и В. Б. Пфаффа в их исследованиях осетинского языка. По сути же, наука фактически вернулась к определению Потоцкого, называвшего группу народов, схожих между собой по языку, включая народы севера Индии, курдов, талышей и осетин – «европейской». Нет никаких оснований считать индийский и германский элементы в этой общности превалирующими. Более того, факты анализа языка говорят скорее о том, что отдельной, узкой индогерманской общности не существовало вовсе – термин, скорее всего, возник индуктивно, как результат выявления большой схожести между германскими языками и санскритом. С другой стороны появление данного термина является следствием разработки теории индоевропейской общности в первую очередь германскими учеными. Именно в таком контексте первооткрыватели осетинского языка и культуры рассказывали о своих открытиях немецкоязычной публике, формулируя свои высказывания как реплику в обсуждении популярной в то время научной теории.
Важно также помнить, что авторы-европейцы, писавшие об Осетии были носителями христианской (протестантской) культуры – большая часть анализируемых трудов появилась до наступления эры дарвинизма в науке. Именно поэтому история происхождения языков и народов в их представлениях тесно связана с ветхозаветными легендами – это была на тот момент единственная версия происхождения человека. Так, к примеру, начиная с исследования Потоцкого, интересующие нас авторы принимают деление народов и языков, согласно генеалогии сыновей Ноя, на семитские – потомки Сима, хамитские – потомки Хама, иафетические – потомки Иафета. «От них, – говорится в десятой главе Книги Бытия, – населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». Ученые, таким образом, классифицировали языки и народы в соответствии с данным отрывком, считая, согласно ветхозаветной легенде о Всемирном потопе, прародиной всех народов мира Ближний Восток. «Десятая глава Книги Бытия, – писал Фредерик Дюбуа, – в историческом смысле, первая известная нам классификация народов и рас, которая всех нас касается». Вследствие подобного «ветхозаветного» взгляда на происхождение народов, вплоть до появления труда Всеволода Миллера ученые, говоря о направлении переселения предков осетин, сходились во мнении, что оно происходило с юга на север – из стран Передней Азии и Ближнего востока на Кавказ. Лишь только после выхода в свет диссертации Миллера это представление было впервые подвергнуто критике. Со временем же ученым удалось установить, что Передняя Азия вообще не была исторической родиной ираноязычных народов.
Не является секретом также и то, что ученые и путешественники, впервые побывавшие на Кавказе, пытались как можно ярче подать добытые ими сведения, что выливалось порой в досадные недоразумения и откровенные курьезы. Увы, не все эти недоразумения устранены – многие иллюзии первых путешественников и первооткрывателей Осетии так и не были развеяны, равно как и намеренно сотворенные ими мифы. Особенность же научного познания такова, что автор, публикуя новый материал и допуская при этом ошибку, часто не дает себе труда написать опровержение, перекладывая, тем самым, эту почетную обязанность на плечи последующих поколений.
И тем не менее, анализируя материалы научной дискуссии ученых XIX в., мы видим, что многие основные вопросы, касающиеся истории и этногенеза осетин, были решены уже тогда. Определенным эталоном в этом смысле является диссертация выдающегося русского фольклориста и этнографа Всеволода Миллера, расставившая все точки над и в вопросах истории и этногенеза осетин. Именно Миллер в своих «Осетинских этюдах» искоренил множество заблуждений своих предшественников и дал правильные оценки трудам своих коллег – первых исследователей Осетии. Не всегда на высоте оказывались исследователи, пришедшие на смену Миллеру, следствием чему стало множество авантюристических концепций и вульгаризаций. Труд выдающегося российского ученого в этом смысле – неподвластный времени эталон, с которым всякий раз приходится сверяться каждому, кто пишет об Осетии и ее прошлом. Таким же эталоном в XX в. стали статьи выдающегося советского ученого В. И. Абаева.
Читать дальше