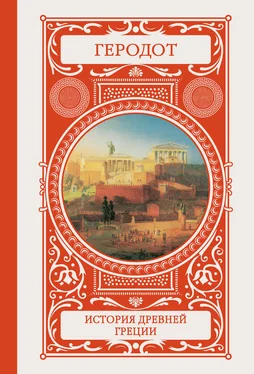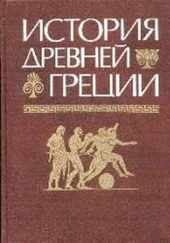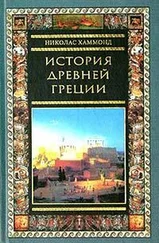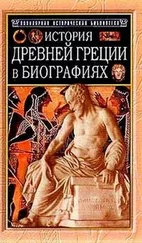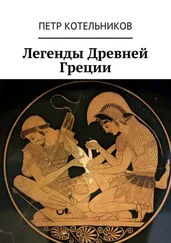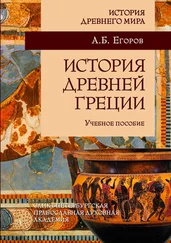Но критик совершенно теряет почву в значительной части исследования, когда старается доказать, что «отец истории» вовсе не так простодушен, как о нем привыкли думать, что он нередко собственные суждения облекает в форму известий, для чего предваряет их словами «говорят» и подобными. При этом признаки сочиненности оказываются не только не однородными, но даже противоположными. Так, понтийские скифы вовсе не совершали того похода в Азию, о котором рассказывает Геродот (I, 103 сл.) и в связь с которым он приводит со слов скифов так называемую женскую болезнь. Так как скифы не могли говорить о небывалом походе, то Геродот сам выдумал связь болезни скифов с этим походом. Рассказы сведущих в старине персов в начале Геродотовой истории – измышление самого автора, ибо «кто может серьезно подумать, будто персы так прилежно занимались греческой литературой и были сведущи в ней настолько, что не только в точности знали передаваемые эллинскими поэтами басни, но и входили в изыскания поэтических повествований и в такие толкования их, с помощью которых повествования эти становились правдоподобными» и пр. и пр. Однако в других случаях признаком сочиненности является для автора правдоподобие происхождения известия от поименованного историком свидетеля или свидетелей. Так, Геродот передает различные мнения, во-первых, большинства эллинов (οι πολλοί Ελληνών), во-вторых, афинян, в-третьих, аргивян о причине умопомешательства спартанского царя Клеомена (VI, 75). Панофский находит, что различные объяснения согласуются с положением каждой группы свидетелей; следовательно, весьма вероятно, что историк записал то, что слышал по поводу необыкновенной болезни царя в разных местах от разных свидетелей. Но не так думает критик: это самое правдоподобие он считает только легким средством для Геродота прикрыть собственное сочинительство. Точно такого же происхождения кажутся объяснения самосцев (ως μεν Σαμιοι λεγουσι III, 47) относительно похода лакедемонян на Самос и т. п. В ряду многочисленных случаев, приводимых критиком для иллюстрации своего положения, мы не находим ни одного такого, который позволял бы согласиться с Панофским и оправдывал бы подозрение, будто Геродот умышленно маскировал недостаток точных сведений о предметах и прибегал к уловкам с целью показать себя много видевшим и наблюдавшим путешественником. Критик забывает высокую степень любознательности и словоохотливости древних эллинов, необозримое множество ходивших в разных местах вариантов об исторических и мифических личностях и событиях; в истории Геродота едва ли можно указать хоть один такой предмет, о котором у эллинов не существовало бы разнообразных известий и различных суждений. В одних случаях Геродот не желает повторять того, что говорилось (или писалось) другими (VI, 55), в других он передает результаты собственных наблюдений или изысканий (II, 147). Сочинения Геродота, Фукидида, Ксенофонта субъективны в высшей степени в том именно смысле, что авторы передают как достоверный факт, часто без указания источника или свидетеля, то, что кажется им достоверным. В случаях сомнительных или вообще таких, когда автор не желает принимать на себя ответственность за подлинность сообщаемого, он передает известие с прибавкой «говорят» или иной подобной. Но до сих пор никто не думал, чтобы Геродот или другой древнеэллинский историк старался выдавать собственные измышления под видом полученных со стороны известий; и усилия критика доказать противное не увенчались успехом. Что Геродот подчас влагает в уста действующих лиц собственные воззрения, в этом едва ли можно сомневаться ввиду речей Крезов, Ксерксов, Артабанов и других варваров, высказывающих чисто эллинские понятия об окружающем; но, во-первых, он делает это в речах или диалогах, где не только форма изложения принадлежит автору, во-вторых, и здесь остается неизвестным, насколько в сочинительстве повинен автор и что́ он находил готовым в рассказах и преданиях о событиях и личностях, отделенных от него несколькими десятками лет. Драматизм повествования составляет характеристическую черту не только Геродота и Фукидида, но и предшественника их Гекатея. Так, Лонгин замечает: «По временам, когда историк касается какого-нибудь лица, он внезапно покидает свою роль и говорит устами описываемого им человека». 353-й отрывок Гекатея представляет и образчик такого изложения. Но Панофский вовсе не касается вопроса о геродотовских речах и тщетно усиливается открыть сочинительство там, где на самом деле есть только передача чужих известий или суждений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу