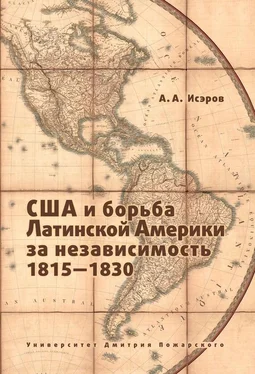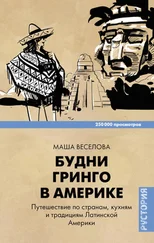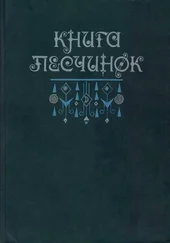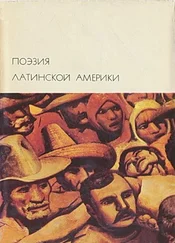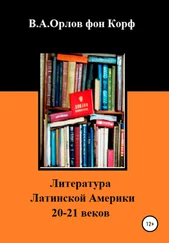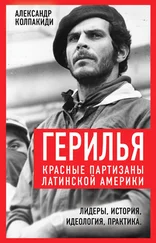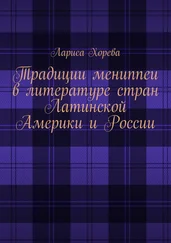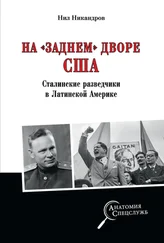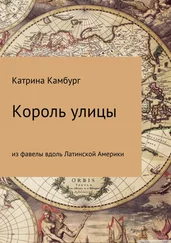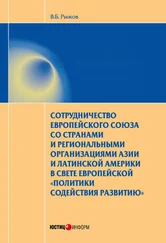Колонизатор Техаса Стивен Остин считал католическое духовенство «врагами свободы, человеческого счастья и всего рода человеческого». Их обиталища – «логова разврата, интриг, подлости, порока». Именно «предрассудки и фанатизм» держат мексиканцев во тьме заблуждений: «Духовенство буквально высосало кровь несчастного народа». В другом письме Остин признался брату, что если монахи появятся на территории их поселения, он будет готов их повесить [186].
Секретарь миссии мексиканского посланника Джоэля Пойнсета, выходец из знатной виргинской семьи Эдвард Торнтон Тэйло возмущался церемонией в честь патрона Мехико блаженного Фелипе де Хесуса: «Я наблюдал [событие] со смешанным презрением и сожалением… Конгресс – республиканский и свободный конгресс, прославляющий святого, и Президент страны, поклоняющийся ему!» [187]
Сочетание республиканских и религиозных лозунгов поразило и Генри Брэкенриджа, который, впрочем, стремился понять, а не осудить это зрелище. Несмотря на свое знание и уважение к иберийской культуре, он не мог скрыть впечатления о «мрачности (gloominess) колониальной католической веры» [188].
Открыто защитить католическую религию и даже столь чуждые англосаксам процессии попытался журналист Уильям Дуэйн, сам по происхождению католик-ирландец. Он подчеркивал патриотизм латиноамериканского духовенства и без предубеждения относился к пышным религиозным процессиям [189]. Впрочем, и Дуэйн считал монастыри противоестественным институтом и обвинял церковь в устройстве ложных чудес вокруг почитаемых образов [190].
Бэптис Ирвайн, еще один радикальный журналист-ирландец, также не видел противоречия между свободой и католицизмом. Он напоминает читателям, что «первые шаги к свободе» после «темных веков» сделали еще до Реформации католики Италии, Швейцарии, Англии, наконец, что в последние годы все революционные движения развивались именно в непротестантских странах – Латинской Америке, Неаполе, Испании, Португалии, Греции. Дело в том, что «священники не могут всегда диктовать политику», значит, религия не обязательно является определяющей общественной силой. Он указывает, что равно несвободны и католическая Австрия, и лютеранская Пруссия, и Россия с ее греческой церковью.
«Гражданская свобода и образование» преобразуют вероисповедания, так что недалек тот час, когда «…либерализована будет любая секта – даже иудейская и магометанская». По утверждению Ирвайна, никто в Латинской Америке не соблюдает 40 дней поста (sic!), а священники уже «не заняты сварами», а «изучают искусства, продвигают науки и пишут исторические сочинения» [191].
В общем, даже когда на общем «антипапистском» фоне звучали редкие попытки североамериканцев ирландского происхождения защитить католицизм, они были основаны не на утверждении внутренних достоинств традиционной церкви, а на апологии общего движения всех конфессий к религиозному либерализму.
Выросшая на классическом республиканизме идеология ранней республики во главу угла ставила добродетельного образованного гражданина, достойного участвовать в управлении своим селом/городом/ государством [192]. Существование различных избирательных цензов в ранней республике ясно давало понять: такими гражданами являются не все жители США. Отсутствие доблести/добродетели (virtue) в условиях гражданской свободы ведет к анархии, погубившей, как хорошо знали отцы-основатели, все древние республики. Любая ли страна, любой ли народ является достаточно подготовленным, чтобы грамотно воспользоваться «даром разумной свободы»? Террор Французской революции не позволял ответить на этот вопрос положительно. Только в 1820-е гг. пришедшее к власти второе поколение американских политиков забудет столь свойственную отцам-основателям «макиавеллиевскую тревогу» и сочтет эксперимент удачным. Действительно, Соединенные Штаты успешно преодолели испытания тяжелой англо-американской войны 1812–1815 гг., а до нуллификационного кризиса 1832–1833 гг. никто не хотел верить, что вопрос о рабстве может поставить под угрозу единство складывавшейся нации и федерального союза.
К тому времени североамериканцы уже твердо считали свою политическую систему наилучшей из возможных, но далеко не все изначально были уверены в возможности повторения успешного опыта. Следовательно, унаследованная «черная легенда» неизбежно воздействовала на оценку латиноамериканской революции в США.
Чтобы обсуждать влияние классического республиканизма и «черной легенды» на образ южных соседей в США, необходимо ввести понятие национального характера – одно из ключевых для интеллектуального поля эпохи, на котором разворачивались споры о перспективах Латинской Америки. В XVIII столетии рассказ об истории и современности народа обязательно включал обсуждение национального характера, причем к концу столетия понятие нации окончательно включило в себя весь народ, а не только его верхи. Как пишет современный исследователь, суть проблемы национального характера в англосаксонской традиции – это отношение между свободным правительством (и/или рыночной экономикой) и «качеством» граждан [193]. Что же определяет национальный характер? Здесь к началу XIX века сложились две основные традиции: Монтескье (вслед за Гиппократом, Платоном, другими античными мыслителями и Макиавелли) подчеркивал влияние климата и других постоянных факторов на общий дух (esprit general) народа. С Монтескье в «Общественном договоре» (1762) согласится Руссо. Споря с автором «Духа законов» (1748), Юм (а вслед за ним и Вольтер, Фенелон, Тюрго) утверждал господство других, переменчивых сил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу