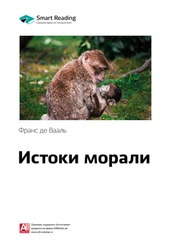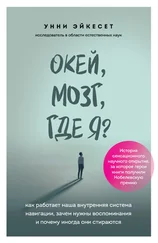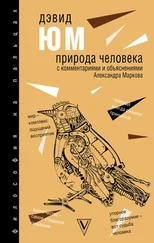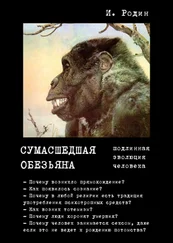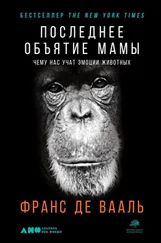В своей книге «Последние дни» (The Final Days) Боб Вудворд и Карл Бернстайн описывают нервный срыв президента Ричарда Никсона в 1974 г., после того как стало очевидно, что ему придется уйти в отставку: «Между рыданиями Никсон горько жаловался. Как мог простой взлом… привести ко всему этому?.. Никсон встал на колени… [Он] согнулся пополам и ударил кулаком по ковру, крича: „Что я сделал? Что произошло?“». Рассказывают, что его госсекретарь Генри Киссинджер утешал низложенного лидера, как ребенка. Он успокаивал Никсона, буквально держа в объятиях, снова и снова перечисляя все его великие свершения, пока президент, наконец, не утих.
Учитывая очевидную «волю к власти» (как это называл Фридрих Ницше) рода человеческого, огромную энергию, вкладываемую в ее выражение, раннее возникновение иерархий среди детей и совершенно детскую опустошенность взрослых людей, падающих с вершины власти, я испытываю недоумение в отношении табу, которым наше общество окружает этот вопрос. Большинство учебников по психологии даже не упоминают о власти и доминировании, разве что в связи с невротическими проявлениями жестокости и насилия. Все как будто отказываются это видеть. В одном исследовании мотиваций руководителей корпораций спрашивали об их отношении к власти. Они признавали существование жажды власти, но никогда не относили это к себе, утверждая, что скорее получали удовольствие от ответственности, престижа и авторитета. За властью всегда охотились только другие люди.
Кандидаты на политические посты столь же неохотно говорят о власти. Они представляют себя как слуг народа, идущих в политику, только чтобы поправить экономику или улучшить образование. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кандидат признавался, что желает власти? Слово «слуга» явно искажает факты: кто-нибудь верит, что только ради нас эти кандидаты присоединяются к «боям в грязи» при современной демократии? Интересно, а сами они в это верят? Право, это было бы весьма необычное самопожертвование. Работа с шимпанзе очень отрезвляет: они – те честные политики, которых мы все жаждем. Когда один из основателей политической философии Томас Гоббс постулировал неодолимую тягу к власти, он попал точно в цель в отношении как людей, так и обезьян. Наблюдая, насколько открыто и беззастенчиво шимпанзе всеми силами борются за положение в группе, исследователь едва ли обнаружит в их поведении некие скрытые мотивы или обещания каких-либо благ.
Я не был готов к этому, когда совсем еще юным студентом начал следить за драмами, разыгрывавшимися между шимпанзе в арнемской колонии, со своего наблюдательного поста над их островом. В те дни само собой подразумевалось, что студенты настроены против властей и правящего класса, и мои волосы до плеч это подтверждали. Мы считали власть злом, а честолюбие – чем-то нелепым и смехотворным. Однако наблюдения за человекообразными обезьянами заставили меня открыть глаза и увидеть отношения, завязанные на власти, не как что-то дурное, но как нечто свойственное нам от природы. Возможно, от неравенства нельзя просто отмахнуться и воспринимать его только как порождение капитализма. Все выглядело так, будто оно коренится гораздо глубже. В наши дни это может показаться банальным, но в 1970-е гг. человеческое поведение представлялось абсолютно гибким: не природным, врожденным, а культурным, приобретенным. Люди полагали, что, если по-настоящему захотеть, можно избавиться от архаических тенденций вроде сексуальной ревности, гендерных ролей, материальной собственности и – да – желания доминировать.
Не подозревая об этом революционном призыве, мои шимпанзе демонстрировали те же архаические тенденции, только без всяких признаков когнитивного диссонанса. Они были ревнивцами, сексистами и собственниками – откровенно и недвусмысленно. Тогда я не знал, что продолжу работать с ними всю оставшуюся жизнь и что никогда больше у меня не будет такой роскоши: сидеть на деревянном табурете и наблюдать за ними тысячи часов. То время, как никакое другое в моей жизни, было полно открытий. Я с головой погрузился в эти наблюдения и даже пытался представлять, что побуждало моих обезьян совершать то или иное действие. Они стали мне сниться, и, что еще более важно, я начал видеть в ином свете окружающих меня людей.
Я прирожденный наблюдатель. Моя жена, которая не всегда рассказывает мне о своих покупках, давно смирилась с тем фактом, что я могу зайти в комнату и за считаные секунды обнаружить что-либо новое или изменившееся, каким бы незначительным это изменение ни было. Это может быть просто новая книга, поставленная между другими, или еще одна банка в холодильнике. Я замечаю все это совершенно непреднамеренно. Точно так же мне нравится наблюдать за поведением людей. Выбирая место в ресторане, я всегда сажусь так, чтобы видеть как можно больше столиков. Мне доставляет удовольствие следить за социальной динамикой вокруг меня – проявлениями любви, напряжения, скуки, антипатии, – разгадывая язык тела, который я считаю более информативным, чем произносимые слова. Поскольку отслеживание других – это то, что я делаю автоматически и незаметно, роль мухи на стене вольера шимпанзе далась мне легко и естественно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
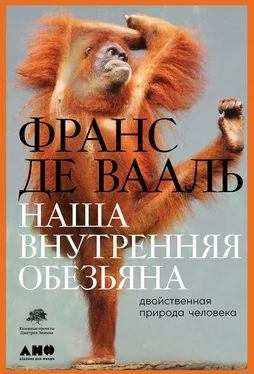
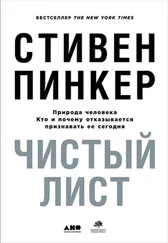
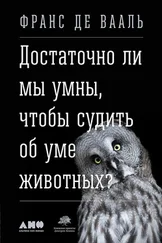
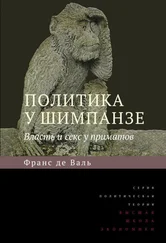


![Франс Вааль - Последнее объятие Мамы [litres]](/books/406055/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres-thumb.webp)