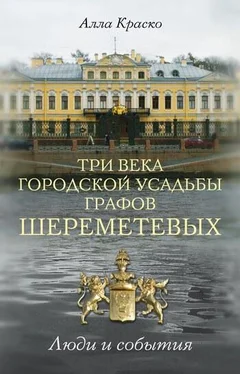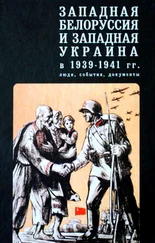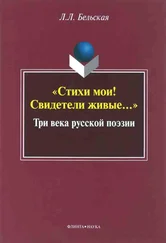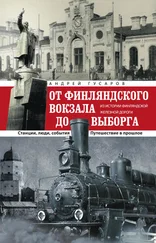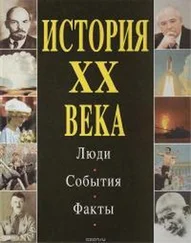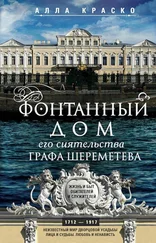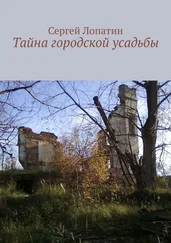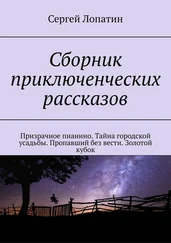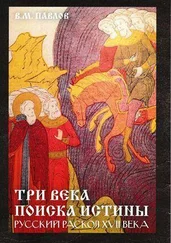Храмовый праздник – День великомученицы Варвары – праздновался 4 декабря. В этот день литургию иногда служили викарий или митрополит, после службы по традиции духовенство завтракало вместе с членами семьи. Всегда особо чтился Николин день, 6 декабря, день святых Симеония и Анны, отмечаемый 3 февраля, – день рождения графа Дмитрия Николаевича.
Самые торжественные службы приходились на Рождество и особенно на Пасху. «…С четверга начинаются праздничные приготовления. Из Ульянки привозятся растения и цветы. Комнаты украшаются для предстоящих крестных ходов. Начинают красить яйца: тут и сандал, и лук, и шелк, и всякие краски, и вся эта стряпня и пачкотня радует и веселит… Преддверие Великого дня, но впереди еще столько часов ожидания глубоких ощущений… как светло становится на душе, и в доме все светлее, и лица оживляются… везде все прибрано, все готовятся, давно и розаны принесены, и в зале все украшено зеленью и цветами. Наступают сумерки; в церкви еще прикладываются к плащанице, многие еще спешат в соборы. Видишь кое-где, как расставляют наготовленные куличи и пасхи. У нас они все собраны на большом столе за галереею куличи и пасхи со всего дома». Во время главной пасхальной службы в церковь выносились все семейные иконы, писанные в рост детей при рождении. По ходу службы бывал крестный ход по дому: «…Крестный ход направляется через образную; проходят ряд освещенных комнат, белую залу с серебристыми люстрами и с цветами и торжественно вступают в галерею, всю залитую огнями. Здесь шествие останавливается. Священник совершает троекратное каждение икон. Еще мгновение – и небо вам кажется отверстым», – вспоминал граф С.Д. Шереметев. После Троицы и Духова дня богослужения прекращались до осени, хозяева дома разъезжались на лето.
При графе Дмитрии Николаевиче известность шереметевской церкви принесла Капелла. После его смерти она была распущена, поскольку в процессе раздела имущества между наследниками расходы по содержанию Фонтанного дома и других имений были сокращены до минимума. Граф Сергей Дмитриевич, став хозяином Фонтанного дома, обратился к Ломакину с просьбой помочь ему возродить Капеллу. В своем ответном письме Ломакин писал: «…Прежде всего позвольте поздравить Вас с благополучным окончанием раздела. Душевно рад, что Бог привел Вас наконец наследовать по всей справедливости принадлежащий Вам отцовский дом, где Вы росли и возмужали… Владея домом и при нем церковью, очень интересно, что Вы желаете в память отца… иметь хороший хор. Если Вашему Сиятельству угодно было обратиться ко мне за советом, то позвольте мне высказать откровенно мое мнение по этому предмету. Полного хора с дискантами и альтами при начале невозможно иметь, но можно составить очень хорошенький хор на первое время из одних больших 12 или 15 человек. Полагаю, что некоторые из наших лучших певцов не откажут явиться… если плата предложится им немного большая, которую они получают в других местах. Первым голосам можно положить, по моему мнению, не больше 500 рублей в год, а вторым 400 в год. Если позволите мне посоветовать Вашему Сиятельству пригласить к себе г-на Чумачевского (поющего в почтамте) и поручить ему лично собрать наших лучших певцов – Мельникова, Иванова, Кокорузи, Нордова и других». Из бывших певчих удалось вернуть около полутора десятков человек. Гавриил Якимович, уже в то время серьезно болевший, с радостью взялся за работу. Однако в мае 1885 года Ломакин скончался, а граф Шереметев, избранный московским губернским предводителем дворянства, должен был переехать на жительство в Москву. История шереметевской Капеллы закончилась.
Но связи графа Сергея Дмитриевича с семьей Ломакиных не прервались. Он назначил пенсию вдове Ломакина Надежде Андреевне и состоял в переписке с сыном и дочерьми хормейстера. Одна из них, Л.Г. Голина, жившая в Киеве, в 1894 году прислала Сергею Дмитриевичу фотографический снимок всего хора, помещенный хозяином в Этрусской комнате.
Однако церковь Фонтанного дома оставалась для него чрезвычайно важной частью жизни. Яркую картину церковных обычаев в Фонтанном доме уже в начале XX века рисует в своих мемуарах княгиня Лидия Леонидовна Васильчикова, урожденная княжна Вяземская: «…В Петербурге у Шереметевых была домовая церковь. Здесь граф Сергей Дмитриевич царствовал самодержавно, и если кто-нибудь осмелился бы не подчиниться строго установленным правилам и показал бы признаки независимости, то ему бы не поздоровилось, так как старик был круг нравом. Он стоял один в ложе в боковой стене, откуда ему было видно все, что происходило в церкви. Если что-нибудь в службе было не так, стук его палки предупреждал виновного, что за ним следили. Прихожане также внимательно соблюдали коленопреклонения, чтобы не навлечь на себя недовольство хозяина. (Кстати, о коленопреклонениях: Шереметевы не стояли в течение всего песнопения на коленях, а, например, во время Херувимской опускались на колени и вставали на каждом стихе. Наши тамбовские крестьяне поступали именно так. До того, как я попала впервые в шереметевскую церковь, я над этим, признаться, не задумывалась, но можно вслепую сказать, что по старорусскому обычаю полагалось именно „класть“ поклоны, как делали Шереметевы, что, между прочим, гораздо утомительнее.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу