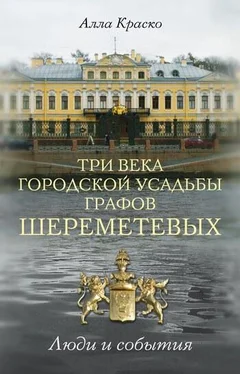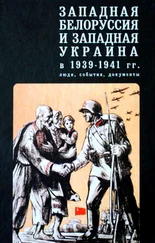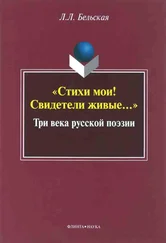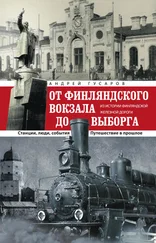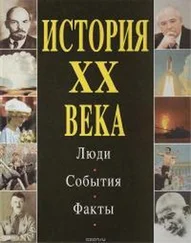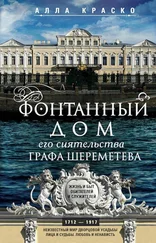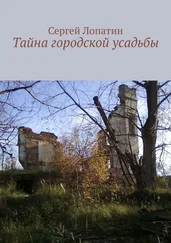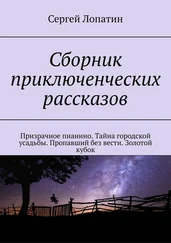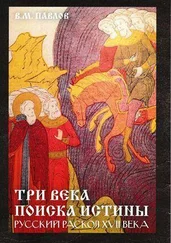В 1820 году, после достижения совершеннолетия, граф Дмитрий Николаевич обратился с прошением на имя императора Александра I. «…Наследуя богатое имение отца моего, я обязанным себя считаю последовать примеру его». Он просил разрешить изменить установленный его отцом штат Странноприимного дома – добавить к 150 кроватям еще 40 (и 8 желал добавить от себя попечитель), из которых 24 предназначались для «призрения» увечных воинов и 16 – для больных. На содержание он предполагал добавить к имеющимся средствам ежегодно по 8400 рублей и 600 на содержание служащих, и единовременно 6 тысяч рублей «на обзаведение». Кроме того, он предполагал добавить еще 8 тысяч рублей на раздачу бедным в день кончины отца и увеличения числа «невестиных» жребиев и прибавки жалованья служащим. Ежегодно, таким образом, он обязывался добавлять к оговоренным средствам по 23 тысячи рублей.
Сам он вступил в должность попечителя в 1824 году и до конца своих дней, более полувека, считал эту обязанность главнейшей.
Помимо оброка, собираемого с крестьян Младотудской вотчины, ему приходилось ежегодно изыскивать немалые дополнительные средства, поскольку бывали и недоимки по сбору оброка с крестьян, случалось и воровство со стороны некоторых служащих, требовались средства на ремонт и расширение построек, на создание отделения для приходящих больных, заведение сада и огорода и т. п.
После Крымской войны с разрешения царя граф Дмитрий Николаевич увеличил количество коек еще на 20 – для отставных военных, для чего внес в Сохранную казну, в дополнение к неприкосновенному капиталу, 20 тысяч рублей серебром. Заботился он и о церкви Странноприимного дома.
Граф Д.Н. Шереметев впервые лично посетил Странноприимный дом в 1826 году, когда находился с полком в Москве при коронации Николая I. Главных смотрителей дома, по установленному правилу, избирало московское дворянство. После А.Ф. Малиновского им стал Сергей Васильевич Шереметев, затем князь Валентин Михайлович Шаховской, граф Николай Алексеевич Шереметев (последний мужской представитель старшей графской линии рода Шереметевых), Платон Степанович Нахимов (брат адмирала), генерал-майор Лев Николаевич Верещагин, генерал-майор Василий Васильевич Ильин.
Странноприимный дом неоднократно посещали члены императорской фамилии: Александр I, императрицы Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна, дважды – Николай I, бывал здесь Александр II, великие князья, многие иностранные гости. Не только графы Шереметевы – Россия могла гордиться таким благотворительным учреждением.
В 1859 году отмечалось 50-летие Странноприимного дома. К этой дате доктор дома Алексей Терентьевич Тарасенков написал книгу о его истории, опубликованную на средства графа Дмитрия Николаевича.
После отмены крепостного права с финансированием расходов Странноприимного дома сложилось катастрофическое положение, и Главной конторе графа Шереметева приходилось изыскивать дополнительные суммы; в 1860-х годах было переведено около 15 тысяч рублей.
В своем завещании граф Д.Н. Шереметев возлагал обязанность попечителя на старшего сына.
Вторая половина жизни графа Дмитрия Николаевича была наполнена не только тяжелыми испытаниями, но и радостными для него событиями. Это и рождение сына Александра, и его любимая Капелла, и милости царя. Дважды граф Дмитрий Николаевич принимал в Останкино Александра II с супругой. Первый раз царская семья жила в Останкино в августе 1856 года, накануне коронации. В самый день коронации, 26 августа, граф Шереметев пожалован в гофмейстеры двора и 30 августа награжден орденом Св. Станислава 1-й степени.
Второй раз Александр II с императрицей провели в Останкино три дня в августе 1858 года. Пребывание царской четы в его доме было для хозяина и почетно, и приятно. Граф Сергей Дмитриевич, размышляя об особенностях характера отца, писал, что «…в его чувстве к государю сказывалась старинная, родовая преданность царям. Это было своего рода благоговение, но в этом чувстве не было и тени того, что называется царедворством… Отец необыкновенно был чуток ко всякому проявлению сочувствия и расположения. Простота и более всего ласковый привет всегда быстро привлекали его. Сухость и холодность его сжимала, самонадеянность коробила, а заносчивости он не выносил. Но когда видел сочувствие и участие, он готов был привязаться горячо и искренно, и в этом чувствовал потребность и успокоение».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу