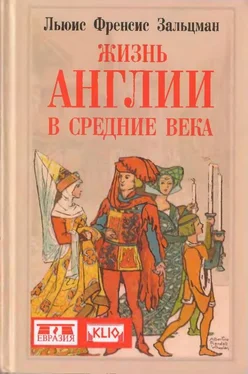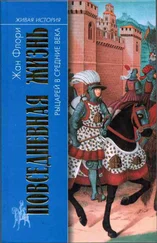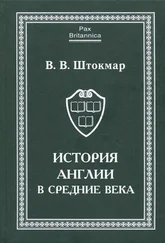Другой формой религиозных объединений были ордена нищенствующих монахов, которых нередко путают с монастырской братией. Трудно сказать, какой из сторон эта путаница доставила бы большее неудовольствие, потому что они испытывали взаимную неприязнь и яростно поносили друг друга. Наибольшим влиянием пользовались два нищенствующих ордена: доминиканцы (братья-проповедники, или чёрная братия) и францисканцы (братья-минориты, или серая братия); в Англии оба этих ордена появились при Генрихе III. Идеалы нищенствующих монахов радикально отличались от идеалов их собратьев, подчинявшихся монастырским уставам. Последние изначально стремились удалиться от мира, поэтому монастыри возникали, как правило, в сельской местности, вдали от городов, а представители нищенствующей братии, напротив, отправлялись в мир, смешивались с народом и проповедовали ему, и потому их обители всегда находились в городах. Монахам не разрешалось иметь какую-либо собственность, но зато монастырская община могла владеть землёй, и государство так щедро одаривало монастыри, что в итоге в их руках оказалось сосредоточено около четверти всех земельных угодий Англии; нищенствующие же ордена позволяли себе иметь ровно столько земли, сколько требовалось для возведения на них построек, и не более того. Не владея имениями, которые могли бы приносить им регулярный доход, нищенствующие монахи во всём зависели от пожертвований благотворителей, и, когда идеал христианской бедности утратил для них былую привлекательность, они стали пренебрегать исполнением религиозных обязанностей ради погони за выгодой — теперь нищенствующая братия больше думала о том, как, обхаживая старух, тянуть из них деньги на содержание своей обители, чем о борьбе за христианские души во имя Господа. В Средние века не было личности более привлекательной и более достойной любви, чем святой Франциск [33] Св. Франциск Ассизский (1182–1226) — основатель ордена францисканцев, придерживавшегося аскетичного образа жизни. (Примем, ред.)
, и первые общины нищенствующих проповедников воистину унаследовали его дух, однако немного нашлось бы фигур столь же отвратительных, как нищенствующие монахи позднейшего времени, жадные и пронырливые, — именно такими предстают они в литературе той эпохи. И хотя добродетельные монахи встречались во все времена, приходится признать, что к концу Средневековья оба ордена заметно отошли от своих первоначальных идеалов, причём их духовному обнищанию в значительной мере содействовало преуспевание в мирских делах. Правда, когда Генрих VIII стал жестоко преследовать их, мужество, с которым нищенствующие монахи переносили заключение и принимали смерть за свою веру, отчасти содействовало восстановлению репутации монашеских орденов, утраченной в былые годы.
ГЛАВА 5
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Человеческая природа за минувшие столетия не претерпела каких-либо существенных изменений; дети, как и взрослые, во все времена одни и те же, однако принципы и методы воспитания в наши дни стали совсем другими, мы также развиваем в своих отпрысках добрые задатки и стараемся подавить их дурные наклонности (в чём и заключается цель любого воспитания), но мы делаем это совершенно иначе, чем наши предки в Средние века. Если говорить о первых месяцах жизни ребёнка, то рассуждения средневековых авторов иногда актуальны и для нас. Так один из них предостерегает людей против семейной жизни, описывая хлопоты, связанные с появлением младенца: «…и вот дитя родится на свет, отныне его крик и его плач будут заставлять вас подниматься среди ночи», а у другого средневекового писателя можно найти вполне современные советы по уходу за новорождёнными: он говорит о необходимости беречь глаза младенца от света, настоятельно рекомендует следить за качеством молока и предупреждает мамок и нянек о том, что ручки и ножки малыша могут искривиться. Правда, тот способ, которым он предлагает воспользоваться, чтобы избежать этой опасности, способ, к которому прибегали на протяжении многих столетий, наверняка вызовет неодобрение всех современных нянек и врачей. Чтобы руки и ноги ребёнка были прямыми и стройными, его туго пеленали свивальником, который, как бинт, наматывали вокруг тела, пока младенец не превращался в некое подобие кокона или мумии, в таком состоянии он мог пошевелить только головкой. Сегодня же мы отказываемся от всего, что ограничивает свободу младенца, отдавая предпочтение коротким распашонкам, и любуемся неловкими движениями пухлых ручек и ножек. То же самое можно сказать и о различии между средневековыми и современными методами воспитания. В Средние века идеальное воспитание заключалось в том, чтобы стреножить воспитанника системой правил и наказаний, а затем тянуть сто по узкой стезе учения, не позволяя даже бросить взор, не то что сделать шаг, вправо или влево; современный идеал, напротив, состоит в том, чтобы предоставить ребёнку максимальную свободу в расчёте на то, что он обретёт способность мыслить самостоятельно и полюбит учёбу ради неё самой. Но поскольку характеры мальчиков и девочек за минувшие века почти не изменились, ни один идеал никогда не удавалось воплотить в полной мере. И сегодня, точно так же, как в XII веке, младшее поколение «живёт совершенно бездумно и не ведает никаких забот, отдавая все силы забавам да развлечениям, ничто не вселяет в них ужас, кроме порки, и они больше радуются яблоку, чем золоту. Хвалят ли их, стыдят ли, ругают ли — им всё равно… Они хотят есть много мяса, и от избытка мясной пищи и от неумеренности в питии часто страдают различными болезнями и пороками». Однако в наши дни уже нельзя сказать, как прежде: «Чем сильнее отец любит своё дитя, тем суровее наставляет его, тем в большей строгости его держит, и если отец не чает души в своём чаде, то кажется, будто он вовсе не любит его, потому что сечёт его и корит его, чтобы дитя не пристрастилось к дурному и не выросло порочным».
Читать дальше