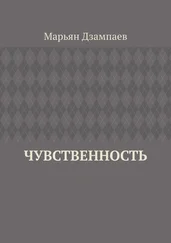В этом смысле Троцкий в своем тексте на все сто использовал властный ресурс, жестоко пресекая любые посягательства художников на власть в культуре. Поэтому он и выступал против фигуры «пролетария» в искусстве, обосновывая это риторическим соображением, что сегодня пролетарии еще не могут быть художниками ввиду неотложных задач политического и экономического строительства, а в будущем уже не будут ими, потому что тогда не будет самого пролетариата. О непосредственном самоуправлении и демократизме, как в культуре, так и в политике, в рамках подобной формулы не могло быть и речи. Кстати, и положение о служебной и временной роли диктатуры пролетариата, которое Троцкому часто ставят в заслугу на фоне более поздних сталинских репрессий, не стоит переоценивать. Его нужно понимать в отмеченном выше смысле государственного контроля над культурой.
Но главной двусмысленностью эстетической позиции Троцкого было его неприятие революции в области художественной формы в русском авангарде. Если он и поддерживал здесь футуристов, то исключительно в идеологическом плане. Так, идею жизнестроительства Троцкий понимал в смысле массового искусства, подчиненного «биомеханическим ритмам». Другими словами, он использовал футуристические идеи только для поддержки своей обрисованной в конце «Литературы и революции» фантастической картины будущего [297]. Но эта квазифутуристическая утопия Троцкого, к несчастью, служила целям, противоположным реальному советскому настоящему. Как цинично писал об этом сам Троцкий, сегодня пролетариату «до зарезу» нужна советская комедия, настоящая же коммунистическая трагедия его ожидает в будущем [298].
Экскурс 3. Дзига Вертов: кино как «коммунистическая расшифровка действительности»
Все дело в том или ином сопоставлении зрительных моментов, все дело в интервалах.
Дзига Вертов. Киноки. Переворот
1. Философская критика кинематографа предполагает изучение и описание тех возможностей и ограничений, которые предоставляют этот вид искусства и используемые им медиа для новой постановки и решения традиционных философских проблем. То есть надо отличать критику в ее расхожем квазикантовском понимании от социально-политической критики кино, для которой эта первая дает только метод и язык, хотя и сама не лишена политического измерения. Это видно на примерах политического кино, особенно такого, которое предъявляет эту политичность на уровне не лишь содержания, фабулы, миметического объекта, но и способа организации материала.
Кинопроект Дзиги Вертова для иллюстрации подобного подхода наиболее удачен. Хотя это, конечно, больше, чем пример. Ибо вертовский взгляд на кино не сводится к тому многообразному влиянию, которое он оказал на отдельных режиссеров и историю кинематографа в целом. Он до сих пор остается принципиальной альтернативой господствующим пониманиям кино и кинотехники. Происходит это во многом потому, что вертовский проект раскрывает свой смысл только в своем, революционном времени (1920-е – начало 1930-х годов) и в попытках открытия и продолжения его в настоящем. Этим я хочу сказать, что киноопыты Вертова активно сопротивляются стратегиям завершения их в нашем времени с помощью современного анализа его текстов и подражания его произведениям. Ибо открытые им способы кинематографического видения не сводятся к особенностям его субъективной чувственности, к каким-то его частным эстетическим задачам как художника и к формальным техническим приемам. Вернее, они ориентируются на чувственность, которая субъективируется иным способом – не индивидуальным. И дело здесь не ограничивается конституированием нового коллективного субъекта восприятия такого массового искусства, как кино.
2. В связи с этим уместно сослаться на Вальтера Беньямина, который в докладе 1934 г. «Автор как производитель» говорил об этом новом субъекте – массе – отнюдь не только на уровне его рецептивных способностей: «В процессе медиального развития все больше реципиентов могли бы становиться производителями. При изменениях политических отношений люди участвовали бы в общественных делах. В этом плане они могли бы становиться специалистами, дорастая до авторства, превращаясь из читателей и зрителей в соучастников». При этом решающим для Беньямина является то, что новый статус авторства обусловливается не только политической позицией, т. е. тенденцией, но и дальнейшим развитием технических возможностей сопричастности. Именно этот аспект убеждает его в брехтовском эпическом театре, и он снова распознает его в кино [299].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу