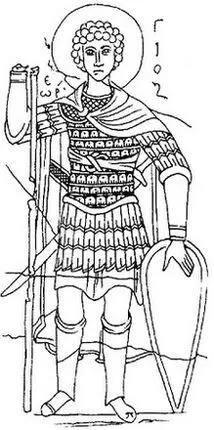Атака отрядов Алексея сперва застала врасплох воинов Вриенния, но, будучи ветеранами, они, быстро оправившись, начали преследование. Отступив, воины Алексея внезапно нападали на атакующих, после чего начинали повторное отступление. Этой тактикой они вымотали противника, при этом нарушив согласованность его линий. Некоторые воины Алексея выбирали своей целью Никифора Вриенния, что заставило его охрану более активно защищать своего полководца.
Когда битва достигла места засады, крылья Алексея, по выражению Анны Комниной, «как рой ос», напали на фланги мятежников, начав сеять панику. Попытки Никифора Вриенния и его брата Иоанна воодушевить своих людей провалились, и восставшие начали беспорядочное отступление. Братья пытались сплотить собственный арьергард, но им это не удалось, после чего они были пленены [1566].
Это сражение покончило с мятежом Вриенния, хотя Никифор Василаки, заручившись поддержкой иллирийских и болгарских войск, захватил Фессалоники и провозгласил себя императором. Однако он также был разбит Алексеем Комнином [1567]. Старший Вриенний по приказу императора Никифора Вотаниата был ослеплен, но позже император сжалился и вернул принадлежавшие бывшему мятежнику титулы и состояние. После захвата императорского престола Алексеем I Комнином в 1081 г. Вриенний позже был награжден за свои военные подвиги. Во время войны с печенегами в 1095 г. он оборонял Адрианополь от атаки мятежников [1568].
ГЛАВА VIII
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЙНЫ
1. ПОНИМАНИЕ ВОЙНЫ С ХРИСТИАНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
«Ἀνθρώπου ἃπαντα εἰκόνι Θεοῦ καὶ λόγω τετιμημένου τὴν εἰρήνην ἀσπάζεσθαι»
(«Людям, почитающим образ и слово Божье, всегда свойственно радоваться миру»)
(Leo, Tact., Praef).
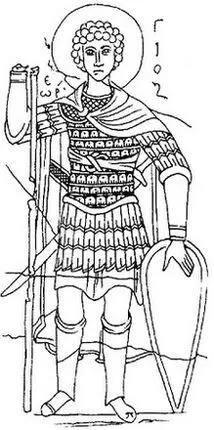
Ромеями — подданными византийского христианского императора война считалась нежелательным и неблагодарным делом. Однако вместе с тем, по необходимости, на нее смотрели как на оправданное средство поддержания порядка и достижения мира как внутри христианской ойкумены, так и за ее пределами [1569]. Вместе с тем, конкретные данные восточноримских и византийских источников, сообщающих о восприятии войны и военных действий, содержат немало двусмысленностей и парадоксов. Подобные двусмысленности весьма характерны для истории культур, преобладающую роль в которых играла христианская вера. Как в глазах современников, так и в глазах исследователей некоторые из этих обществ приобретают репутацию особо агрессивных или, наоборот, более миролюбивых по сравнению с другими. К первой категории обычно относят западноевропейское общество, особенно тогда, когда оно вступает в военную конфронтацию с другими (например, в эпоху Крестовых походов), во вторую чаще всего помещают Византию. В данной главе мы намерены рассмотреть, каким образом происходила эволюция взглядов раннего христианства на ведение войны по мере развития позднеримского и ранневизантийского мира и почему византийская концепция войны дала возможность западным крестоносцам и другим народам, равно как и некоторым современным ученым, считать византийцев слабыми и изнеженными [1570]. Формально христианство так и не выработало идеологического обоснования ведения войны против «неверных», выраженного в понятиях христианской теологии, даже несмотря на то что временами отдельные исторические лица говорили и действовали так, как будто подобное обоснование в самом деле существовало. Более того, тринадцатый канон св. Василия Кесарийского совершенно определенно рекомендовал ведущим войну воздерживаться от общения с единоверцами. Возникает вопрос: каким же образом византийские христиане относились к войне и убийству?
Раннехристианские мыслители выработали немало возражений против ведения войны и особенно — против службы в армиях языческих императоров Рима. Определенную роль в этих учениях играли соображения гуманистического характера, однако главным было отношение христиан к государству. Несмотря на некоторые весьма примечательные исключения, христиане в целом не считали, что Римское государство воплощает собой господство Антихриста. Напротив, они ясно ощущали, что существование государственной власти является необходимым условием распространения христианской веры, и еще св. Лука отметил взаимосвязь между Рах Augusti и консолидацией императорской власти, с одной стороны, и рождением Христа — с другой. Эта взаимосвязь стала играть ключевую роль в апокалиптических сочинениях позднего Средневековья (особенно на Востоке) и легла в основу христианского представления, что как только государство (с конца IV в.) стало христианской империей, римский народ, который исповедовал православную веру и господство порядка, противостоящие миру хаоса и варварства, приобрел качество избранного народа, сменив на этом месте иудеев, виновных в убийстве Иисуса Христа. Напротив, христиане, жившие до «обращения» императора Константина, не могли служить двум хозяевам (Господу Иисусу и Римскому государству), особенно если последнее проявляло открытую враждебность к их вере и самому их существованию. Так или иначе, литургия, относящаяся ко времени до Церковного мира и Миланского эдикта 313 г., изданного Константином, запрещала солдатам, желавшим стать христианами, забирать человеческую жизнь, независимо от того, делали ли они это находясь в армии или будучи вне нее [1571].
Читать дальше