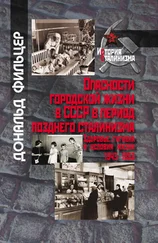Участие женщин в колхозных собраниях и сельских сходах с предоставлением им слова и права голоса власти возводили в особый ритуал, приобретавший символические формы. Не случайно после принятия Президиумом Верховного Совета СССР 2 июня 1948 г. одного из самых репрессивных указов послевоенного времени «О выселении в отдаленные районы СССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни» власти стремились привлечь к участию в выступлениях на собраниях с обличением тунеядцев не только мужчин, но и женщин. Именно последние выступали обличителями злостных нарушителей трудовой дисциплины и они же вносили представления о кандидатах на выселение и предупреждения. Возможно, для властей это было неким компенсаторным механизмом, т. к. в основном выселению подвергались женщины. На общем собрании членов сельскохозяйственной артели «Путь Ильича» Карсунского района, состоявшегося 11 июня 1948 г., рядовая колхозница К-на, выступая за выселение нарушителей трудовой дисциплины, заявила: «Правительство сделало правильно, предоставив нам право самим рассчитаться с такими людьми. Мы отвечаем за колхоз…» [743] ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 6. Д. 220. Л. 125 об.
Однако, несмотря на вышесказанное, представителями местных властей острая критика деятельности правления колхоза и председателя артели встречала негативную оценку, и нередко к острым на язык колхозницам применялись различные дискриминационные меры. Так, председатель колхоза им. Димитрова Сенгилеевского района Давыдов в 1947 г. «огульно, без соответствующей проверки отдал под суд за невыработку минимума трудодней 12 человек женщин», у которых имелись малолетние дети в возрасте от двух до пяти лет. Суд дело прекратил и порекомендовал правлению колхоза организовать «детясли» [744] Там же. Оп. 5. Д. 303. Л. 145.
. При этом Давыдов «защищал и оберегал в течение 4-х лет спекулянтку Е-ву А.С., которая совсем не работала в колхозе» [745] Там же.
.
Преобразования советской власти наделили женщин не только пассивными правами полноправного члена сельского общества, но и позволили им включиться во властную вертикаль, давая возможность замещать властные должности в исполнительных органах государственной власти. Одна из советских газет писала: «В общественном хозяйстве в полную ширь развернулись таланты и способности русской женщины» [746] Лесанов А. Колхозная жизнь -великое счастье // Голос колхозника. 1953. № 133. С. 4.
. Так, на исходе Великой Отечественной войны на пост председателя правления сельскохозяйственной артели им. Молотова Ишеевского района колхозниками была выдвинута М.Ф. Голованова, которая длительное время работала в колхозе заведующей животноводческой фермой [747] Женщина -председатель колхоза // За Родину. 1946. № 10. С. 1.
. Война не лучшим образом отразилась на хозяйстве колхоза. Поля зарастали сорняком, МТС, обслуживающая колхоз, не выполняла планы тракторных работ, снизилась урожайность, в колхозе наблюдалась частая смена председателей. За один год руководства артелью ей удалось полностью рассчитаться с государством по хлебопоставкам, поднять 85 га зяби и посеять озимых на площади 144 га [748] Там же.
. Одним из первых план хлебозаготовок в Новобуянском районе Куйбышевской области в 1945 г. выполнил колхоз «Кочевка», председателем которого являлась женщина-крестьянка Вострова [749] Не в бровь, а в глаз // Большевистский путь. 1945. № 39. С. 2.
.
В отношении женщин к своим трудовым обязанностям в послевоенное время начинает все больше проявляться изменение их представлений о своей социальной роли и месте в социальной структуре. Особенно – у представительниц сельского социума, занимавших посты в сельской властной иерархии. Как отмечает И.Е. Кознова, деформация этических норм определенной группы сельских жителей приводила к тому, что, отрицая колхозную систему, они стремились выйти из нее, но, по сути, продолжали действовать в рамках крестьянского миропонимания [750] Кознова И.Е. ХХ век в социальной памяти российского крестьянства. С. 136.
. Таким образом, потенциал государственной службы как социального лифта реализовывался не в полной мере. Попадая во властную вертикаль, женщина как будто бросала вызов традиционным устоям села, ее патриархальным нормам, хотя сельская мораль требовала добросовестного отношения работника, независимо от пола и статуса, к своим должностным обязанностям, уважительного отношения к старшим, сопереживания проблемам другого и т. д. Женщины же, попадая во власть, пусть и местного значения, часто начинали действовать в рамках стратегии «старухи» из сказки А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке», рассматривая свое настоящее положение как компенсацию за прежние лишения, как возможность пользоваться различными благами в личных целях, заставляя других уважать их значимость. Так, жители села Белый Ключ Сурского района неоднократно жаловались на халатное отношение председателя сельского Совета М.И. Будаевой к своим обязанностям и грубое отношение с посетителями. Она систематически опаздывала на работу, трудовой распорядок дня не соблюдала, а сам рабочий день завершала раньше установленного времени. На просьбы и заявления сельских жителей о недопустимости нарушения трудового распорядка дня чаще всего заявляла: «У меня нет времени. Приходите завтра». А это «завтра» затягивалось на недели. Колхозник А.Я. Мухин пять раз в течение двух недель приходил в сельсовет, чтобы зарегистрировать рождение ребенка, но М.И. Будаеву так и не смог застать на рабочем месте [751] Рябов А. Забыл свой долг // Голос колхозника. 1953. № 88. С. 4.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Хасянов Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой] обложка книги](/books/432697/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya-cover.webp)

![Евгений Гаглоев - Корабль из прошлого [litres с оптимизированной обложкой]](/books/392335/evgenij-gagloev-korabl-iz-proshlogo-litres-s-opti-thumb.webp)
![Юрий Москаленко - Берсерк забытого клана. Книга 8. Холод и тьма Порубежья [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/397399/yurij-moskalenko-berserk-zabytogo-klana-kniga-8-h-thumb.webp)
![Дарья Калинина - Виртуальная сыщица [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/397659/darya-kalinina-virtualnaya-sychica-si-litres-s-opt-thumb.webp)
![Роман Афанасьев - Звездный Пилот [litres с оптимизированной обложкой]](/books/399419/roman-afanasev-zvezdnyj-pilot-litres-s-optimizir-thumb.webp)
![Михаил Тихонов - Падение в небо [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/407007/mihail-tihonov-padenie-v-nebo-si-litres-s-optimiz-thumb.webp)
![Юрий Москаленко - Берсерк забытого клана. Книга 5. Рекруты Магов Руссии [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/408646/yurij-moskalenko-berserk-zabytogo-klana-kniga-5-r-thumb.webp)
![Вальтер Моэрс - Мастер ужасок [litres с оптимизированной обложкой]](/books/411882/valter-moers-master-uzhasok-litres-s-optimizirova-thumb.webp)
![Владимир Поселягин - Бей первым [litres с оптимизированной обложкой]](/books/413818/vladimir-poselyagin-bej-pervym-litres-s-optimiziro-thumb.webp)
![Алекс Каменев - Послушник [litres с оптимизированной обложкой]](/books/413822/aleks-kamenev-poslushnik-litres-s-optimizirovannoj-thumb.webp)