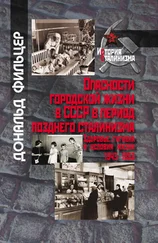М.Б. Таугер, не отрицая факта сознательного геноцида против определенных народов СССР и завышенных норм хлебопоставок в 1932 г., ответственность за разразившийся голод возлагает на руководство советского государства [266] Таугер М.Б. Урожай 1932 г. и голод 1933 г. // Голод 1932-1933 годов: Сб. статей / Отв. ред. Ю.Н. Афанасьев. М.: РГГУ, 1995. С. 25.
. По мнению этого автора, политика насильственной коллективизации оказалась провальной, сельскохозяйственное производство было практически уничтожено. Интересы крестьянства власти поставили на последнее место. Используя механизмы чрезмерных хлебопоставок, они стремились предотвратить голод в городах и не сорвать планы промышленного роста [267] Там же. С. 24.
. Точку зрения М. Таугера на причины голода разделяет С. Дэвис. Последняя полагает, что голод был вызван непродуманной политикой коллективизации, а нежелание крестьян вступать в колхоз сопровождалось массовым забоем скота и резким сокращением посевных площадей [268] Дэвис С. Мнение народа в сталинской России. Террор, пропаганда и инакомыслие. 1934-1941. М.: РОССПЭН, 2011. С. 53.
. По мнению С. Дэвис, в 30-е годы голос крестьянства был практически не слышим властями. Крестьяне предпочитали выражать протест по отношению к проводимой политике властей анонимно, прибегая к слухам и песням. Наиболее распространенными были частушки. В них колхозы изображались как тюрьмы, колхозный строй – как угнетение свободного крестьянства, а сама колхозная система ассоциировалась с лишениями и нуждой [269] Дэвис С. Мнение народа в сталинской России. Террор, пропаганда и инакомыслие. 1934-1941. С. 54.
. С. Дэвис констатирует, что данная стратегия крестьян была намеренной и подрывала официальную пропаганду об улучшении социального и культурного облика советской деревни. Значительной победой крестьян в деле сопротивления коллективизации, считает С. Дэвис, стало принятие нового колхозного устава в феврале 1935 г., по которому крестьяне получили право на приусадебный участок и еще ряд льгот. Но в большинстве своем, замечает она, крестьяне не питали иллюзий относительно соблюдения законов властями своей страны [270] Там же. С. 56.
.
С позиции социальной истории повседневная жизнь советского крестьянства сталинской эпохи исследована американским историком Шейлой Фицпатрик. Она разделяет характерный для западной историографии коллективизации в СССР тезис об отсутствии поддержки крестьянами проводимой властями политики [271] Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история советской России в 30-е годы: деревня. М.: РОССПЭН, 2001. С. 10.
. Неприятие коллективизации, по ее мнению, было связано с тем, что она проводилась принудительно, пришлыми людьми, далекими от понимания ценностей сельской жизни. Фицпатрик отмечает, что «сама стратегия коллективизации, разработанная верховной властью, уже включала в себя насильственные меры, а именно экспроприации и высылку сотен тысяч кулацких семей» [272] Там же. С. 11.
. В своей работе Ш. Фицпатрик проанализировала стратегии крестьянского сопротивления. В основной своей массе они выражались в пассивном сопротивлении: отказ от выхода на работу, сокращение посевных площадей и т. д. К стратегии пассивного сопротивления прибегали практически все крестьяне. По мере укрепления колхозного строя появилась тактика приспособления. Крестьяне стремились извлечь выгоды из сложившейся ситуации, использовать ее для защиты своих интересов. Фицпатрик вводит такое понятие, как «идеал всеобщего госиждивенчества»: решение насущных проблем сельского социума посредством государственного вмешательства. По ее мнению, голод 1933 г. был вызван именно столкновением противоречивых интересов – государства и крестьянства: государство стремилось изъять как можно больше зерна у крестьян, а последние пассивно сопротивлялись. Ш. Фицпатрик уверенно констатирует факт уменьшения количества продуктов питания в деревне после коллективизации [273] Там же. С. 242.
. Уже в первые месяцы ее проведения в мировоззрении крестьян, по мнению Ш. Фицпатрик, начали проявляться черты, характерные для последующих десятилетий колхозного строя: апатия, вялость и несамостоятельность [274] Там же. С. 81.
. В результате интенсивного экономического гнета со стороны государства крестьянство оказалось деморализованныма, а крестьянская жизнь обесценивалась в глазах самих же носителей данной культуры [275] Там же. С. 96.
. Коллективизация спровоцировала процесс размывания традиционной сельской культуры. Как отмечает Фицпатрик, это выразилось в отказе от традиционной крестьянской одежды, стрижки, в кризисе семейных отношений, в распространении добрачных и внебрачных половых связей [276] Там же. С. 242.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Хасянов Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой] обложка книги](/books/432697/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya-cover.webp)

![Евгений Гаглоев - Корабль из прошлого [litres с оптимизированной обложкой]](/books/392335/evgenij-gagloev-korabl-iz-proshlogo-litres-s-opti-thumb.webp)
![Юрий Москаленко - Берсерк забытого клана. Книга 8. Холод и тьма Порубежья [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/397399/yurij-moskalenko-berserk-zabytogo-klana-kniga-8-h-thumb.webp)
![Дарья Калинина - Виртуальная сыщица [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/397659/darya-kalinina-virtualnaya-sychica-si-litres-s-opt-thumb.webp)
![Роман Афанасьев - Звездный Пилот [litres с оптимизированной обложкой]](/books/399419/roman-afanasev-zvezdnyj-pilot-litres-s-optimizir-thumb.webp)
![Михаил Тихонов - Падение в небо [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/407007/mihail-tihonov-padenie-v-nebo-si-litres-s-optimiz-thumb.webp)
![Юрий Москаленко - Берсерк забытого клана. Книга 5. Рекруты Магов Руссии [СИ litres с оптимизированной обложкой]](/books/408646/yurij-moskalenko-berserk-zabytogo-klana-kniga-5-r-thumb.webp)
![Вальтер Моэрс - Мастер ужасок [litres с оптимизированной обложкой]](/books/411882/valter-moers-master-uzhasok-litres-s-optimizirova-thumb.webp)
![Владимир Поселягин - Бей первым [litres с оптимизированной обложкой]](/books/413818/vladimir-poselyagin-bej-pervym-litres-s-optimiziro-thumb.webp)
![Алекс Каменев - Послушник [litres с оптимизированной обложкой]](/books/413822/aleks-kamenev-poslushnik-litres-s-optimizirovannoj-thumb.webp)