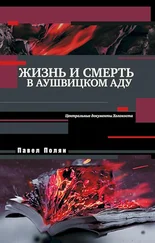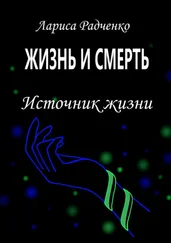Отметим, что и русский «дайджест-перевод» Миневич был выполнен в июле 1962 года и, следовательно, начат, скорее всего, в июне или весной. Налицо явный всплеск интереса к рукописи Градовского. Что послужило причиной или поводом для такого всплеска внимания к документу, практически проигнорированному советской стороной на Нюрнбергском процессе и пролежавшему безо всякого движения, изучения или иного употребления около 18 лет, в точности неизвестно. «Реакция» на майскую публикацию в газете «Фольксштимме»? Или, возможно, запрос из Германии в связи с подготовкой первого из четырех так называемых «Аушвицких процессов», начавшегося в 1963 году [562]?
В 1963–1964 гг. Берл Марк работал над совершенствованием своего перевода на польский и комментированием текстов Градовского. По его словам, та часть записной книжки, что поддается прочтению, понимается легко, а сам текст написан на очень хорошем литературном идише. В то же время он отметил в стиле Градовского склонность к германизмам и определенной цветистости [563]. Затем польский востоковед Роман Пытель проверил и заверил перевод Марка и стилистически его отредактировал; он даже сумел прочесть несколько не прочитанных Марком фрагментов.
Впервые текст записных книжек и почти полный текст письма был опубликован на польском языке — в переводе и с предисловием Б. Марка — только в 1969 году, в выпуске «Бюллетеня Еврейского исторического института» в Варшаве за второе полугодие 1969 года.
Но самого Б. Марка к этому времени уже не было в живых, и публикацию к печати готовила его вдова — Эстер Марк. И делала она это, скорее всего, под большим идеологическим нажимом: текст ее публикации, увы, существенно отличался от оригинального перевода, подготовленного мужем. Так, были сделаны изъятия и даже изменения цензурного свойства, но при этом купюры на тексте никак не были обозначены и нигде не сообщалось хотя бы то, что публикуемый текст — неполный.
Лишь после того, как Э. Марк оказалась на Западе, она сумела опубликовать текст Градовского корректно и полностью — сначала, в 1977 году, в оригинале (то есть на идише), а затем и в переводах: в 1978 году — на иврите, в 1982 году — на французском, в 1985 — на английском и в 1997 году — на испанском языках [564].
Отмеченные дефекты, однако, не были исправлены в публикациях самого Государственного музея «Аушвиц-Биркенау». В 1971 году на польском языке вышел специальный выпуск «Освенцимских тетрадей», посвященный извлеченным из пепла рукописям «зондеркоммандо». Текст Залмана Градовского представлен в нем лишь фрагментами, касающимися собственно Аушвица (что имело, прежде всего, цензурный смысл), а внутри публикации вмешательство цензуры было оставлено без изменений.
Этот дефектный текст перекочевал в 1972 году в немецкую версию свода и в 1973 году — в английскую. В 1975 году он был повторен при переиздании свода на польском языке, а в 1996 году — и при переиздании на немецком. Но при этом «иерусалимская» рукопись Градовского из собрания Х. Волнермана, опубликованная в 1977 году, даже не была упомянута, а дефекты в польском переводе «ленинградского» оригинала не исправлены.
Русскому же языку пришлось дожидаться встречи с этим текстом еще долгих четыре с лишним десятка лет [565].
Куда менее ясны обстоятельства, при которых была найдена вторая рукопись Градовского, носящая авторское заглавие «В сердцевине ада» и содержащая его наблюдения и мысли об Аушвице и событиях, происходивших в нем.
Судьба этой рукописи оказалась неотрывной от судьбы Хаима Волнермана — человека, который спас ее для истории.
Саму рукопись, по одной версии, нашел молодой польский крестьянин — один из освенцимских «кладоискателей», имя которого осталось для истории неизвестным, а по другой — столь же безымянный советский офицер [566]. Обе версии сходятся на покупателе: им стал Хаим Волнерман — местный, ушпицинский, то есть освенцимский, еврей, вернувшийся сюда в марте 1945 года.
Он родился 12 декабря 1912 года в семье знатных бобовских хасидов. Отец — Иосиф Симхе, мать — Эстер; поженились они еще во время обучения отца в йешиве. Назвали его в честь прадедушки, Хаима-Цви Купермана, который примерно 40 лет был председателем религиозного суда (бейс дина). После хедера Хаима послали учиться в бобовскую йешиву, и он до конца своих дней оставался пламенным и верным приверженцем Бенциона Халберштама (4-го бобовского реббе). Занятий Торой Хаим не бросал никогда, но из-за экономических трудностей, антисемитизма и с благословения ребе Хаим начал работать прорабом на «Раппопорт-френкл» — знаменитом текстильном заводе Абэла Раппопорта в Билице. Одновременно занимался общественной работой: был одним из основателей филиала «Поалей агудат Исраэль» (религиозной сионистской партии) в Ушпицине-Освенциме и организатором курсов для будущих эмигрантов в Палестину (изучение Торы, истории еврейства, профессиональные навыки в различных областях), а также курсов по оказанию первой медицинской помощи и помощи раненым (что весьма пригодилось ему самому в испытаниях Холокоста: немцы приказали ему организовать медпункты в лагерях, где он был, — Живице и Бунцлау). В апреле 1941 года, вместе с другими освенцимскими евреями, Волнерман был переселен в Сосновецкое гетто, где чудом сумел уцелеть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
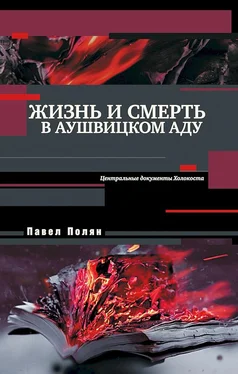
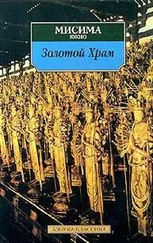

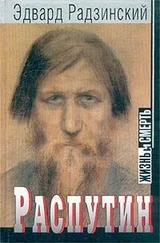
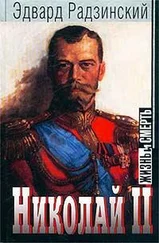



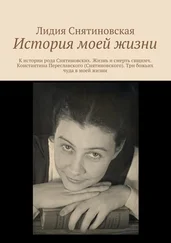
![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)