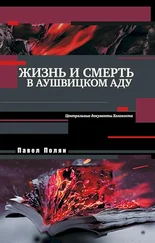Те же страницы, что сохранились и дошли до нас, изрядно пострадали от пребывания в сырой земле — они сильно подмочены и местами совершенно не читаемы. Прочтению, по оценке переводчицы, поддается лишь около 60 % текста, остальное размыто. Наибольшую трудность для расшифровки представляет верхняя часть страниц (от 2 до 17 строк) и самая нижняя строка, а также левый край всех страниц рукописи.
На фоне такой сохранности записной книжки не может не вызывать удивления отличное состояние письма. Вероятнее всего — о чем косвенно свидетельствует и его сам текст — Градовский, опасавшийся за герметичность схрона с записной книжкой, выкопал ее и перезахоронил в обернутой в резину фляжке, вложив в нее и наскоро написанное «Письмо» [548]. К оригиналам были приложены и имевшиеся в наличии переводы.
Надо ли говорить, какое громадное историческое — да и сугубо экспозиционное — значение имели эти предметы и тексты Градовского! Но они пролежали под спудом (точнее, на полках музея) на протяжении почти что 60 (шестидесяти!) лет — без малейшей попытки со стороны руководства музея сдуть с них пыль и открыть миру. Самое первое в СССР упоминание о документе проскользнуло (иначе не скажешь) в 1980 году — в составленном В. П. Грицкевичем каталоге «Воспоминания и дневники в фондах [Военно-медицинского] музея». Сделал он это на свой страх и риск, что потребовало от него известной настойчивости и даже мужества [549]. Но мелькнувшие строчки библиографического описания не остались незамеченными: в музей приезжали сотрудники журнала «Советише геймланд» («Советская родина»), переписавшие среди прочего и записки З. Градовского, но публикация Градовского в журнале, насколько известно, не состоялась.
Впрочем, все эти охранительские хлопоты не помогли. Пролежав месяцы в аушвицкой земле и десятилетия в ленинградских запасниках, текст Градовского еще в начале 1960-х гг. выпорхнул из рук трусливого начальства на свободу и стал известен за границей. Но не на геополитическом Западе, как, например, тексты Пастернака или Мандельштама, а на геополитическом Востоке — в социалистической Польше [550]!
Произошло это в конце 1961 или в самом начале 1962 года — и произошло «на воздушных путях», то есть нелегально или полулегально. Установить подробности пока не удалось, но похоже, что всю ответственность и все риски взял на себя кандидат медицинских наук Антон Адамович Лопатёнок, в 1959–1960 гг. работавший старшим научным сотрудником ВММ.
Он родился 20 сентября 1922 года в Ульяновске, где в длительной командировке находилась его семья, в 1924 году переехавшая в Ленинград. По окончании школы в 1940 году Лопатёнок поступил в Военно-Морскую медицинскую академию, которую окончил в 1945 году. Курсантом участвовал в Великой Отечественной войне, имел боевые награды. В 1948 году Лопатёнок окончил Ленинградский филиал Всесоюзного юридического заочного института, получил диплом юриста. С 1951 по 1955 гг. обучался в адъюнктуре при кафедре судебной медицины Военно-медицинской академии, где защитил кандидатскую диссертацию. В 1955–1959 гг. служил врачом на Балтийском и Черноморском флотах. В 1959–1960 гг. — старший научный сотрудник ВММ, где участвовал в создании Зала жертв фашизма. В 1961–1969 гг. — в Группе советских войск в Германии — в Потсдаме и Магдебурге, на должности главного судмедэксперта Группы Советских Вооруженных сил в Германии. По возвращении из ГДР продолжил службу в Военно-медицинской академии в Ленинграде, где возглавлял редакционно-издательский отдел и активно занимался преподавательской и научно-просветительной работой. Службу в армии закончил в звании полковника медицинской службы. Находясь на пенсии, занимался вопросами истории медицины, в конце 1980-х гг. оставался научным сотрудником ВММ. Умер 9 февраля 2003 года, похоронен на Богословском кладбище в Петербурге [551].
Был Антон Адамович человеком не только знающим и честным, но и смелым и рискóвым. И, натолкнувшись в фондах музея на такое чудо, как рукописи Градовского, он изготовил с них микрофильм и сделал все от него зависящее, чтобы рукопись стала известна тем специалистам, кто был в состоянии ввести ее в научный оборот.
Ближайшие такие специалисты находились в братской Польше, в Еврейском историческом институте в Варшаве. И вот, воспользовавшись встречей, — быть может, и совершенно случайной, — с польским историком-марксистом и доцентом Лодзьского университета Павлом Кожецем, Лопатёнок передал с ним для Еврейского исторического института в Варшаве бесценную копию, а также свою статью о Градовском — вместе с просьбой опубликовать и то, и другое [552]. Встреча эта произошла в конце 1961 года — и, скорее всего, в ГДР, где Лопатёнок проработал долгие девять лет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
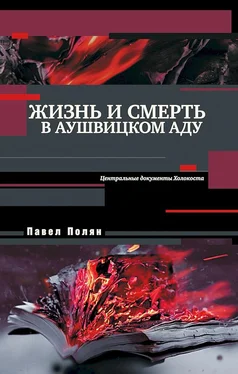
![Павел Щеголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/27714/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie-thumb.webp)
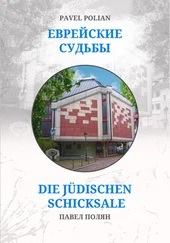
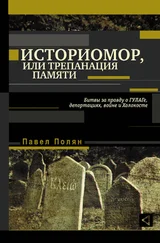
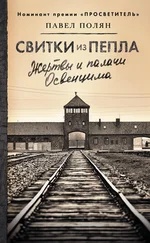


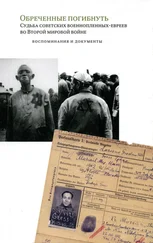
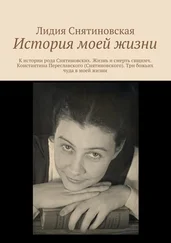
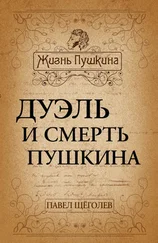
![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)