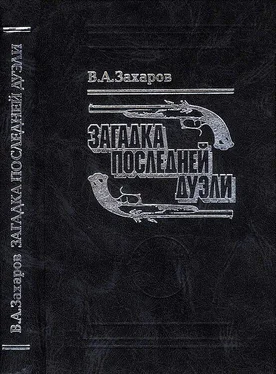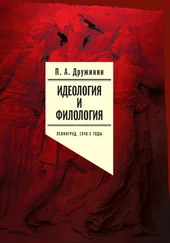По известным нам сведениям, в середине марта 1841 года бабушка Лермонтова — «заступница родная» — по приезде в столицу в очередной раз начинает вымаливать прощение внуку. Она просит военного министра Чернышева дать Лермонтову отставку, обращается к Жуковскому [28]с просьбой передать Императрице еще одно ее личное прошение. Однако просьба Арсеньевой осталась неудовлетворенной, и Жуковский решает обратиться к Наследнику. В его дневниковых записях тех дней сохранился первоначальный вариант письма к Великому Князю [29].
Передал ли свое письмо Жуковский Наследнику или нет — установить не удалось. Но события начали стремительно развиваться не в пользу Лермонтова. Бенкендорф, узнав о хлопотах Елизаветы Алексеевны и, возможно, Жуковского и о том, что поэт еще не уехал из столицы, распорядился о немедленной высылке его в полк — тем более, что уже прошли все сроки пребывания в отпуске.
Дежурный генерал Главного Штаба П.А. Клейнмихель достаточно быстро выполнил это распоряжение — рано утром 11 апреля Лермонтов был разбужен и доставлен на Дворцовую площадь в Главный штаб, где Клейнмихель приказал ему в течение двух суток покинуть Петербург и отправиться в полк.
На следующий день, то есть 12 апреля, у Карамзиных состоялись проводы Лермонтова. Поэт и литературный критик, ректор Петербургского университета П.А. Плетнев вспоминал об этом так: «После чаю Жуковский отправился к Карамзиным на проводы Лермонтова, который снова едет на Кавказ по миновании срока отпуска своего» [126, 152].
На прощальном вечере кроме уже названных были также Александра Осиповна Смирнова-Россет, Евдокия Петровна Ростопчина, Наталья Николаевна Пушкина.
У Карамзиных Лермонтов впервые разговорился с вдовой Пушкина.
Об этом много лет спустя вспоминала дочь Натальи Николаевны — Александра Петровна Арапова (урожденная Ланская). Отметив, что Лермонтов уже не раз встречал Наталью Николаевну в доме своих друзей, но всякий раз сторонился ее, избегая с ней беседы и ограничиваясь лишь обычными светскими фразами, Александра Петровна рассказала, что на этот раз, «уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери, завладев освободившимся около нее местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычностью.
Он точно стремился заглянуть в тайник ее души, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспомощности суждений, так часто отталкивавших от него ни в чем перед ним неповинных людей.
Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением; она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно, и, дав ему волю, простыми, прочувствованными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того, как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял с быстротой вешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просвещения.
В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал:
— Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собой вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если это не самонадеянная мечта, стать когда-нибудь вашим другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которою я чувствую себя способным.
— Прощать мне вам нечего, — ответила Наталья Николаевна, — но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.
Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым [30]перед самым отъездом» [207, II, 154–155].
Читать дальше