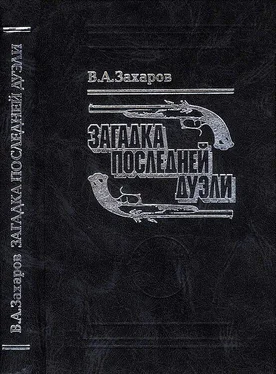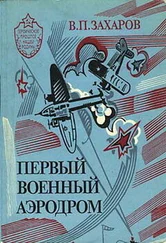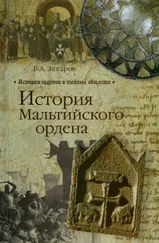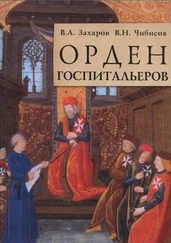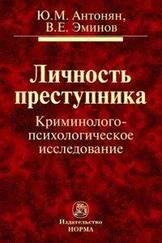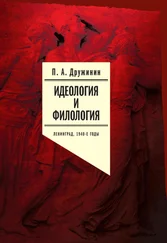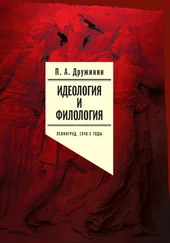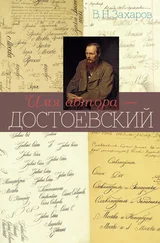Она была лихая наездница, часто составляла кавалькады, на которых была всегда в каком-нибудь фантастическом костюме. Рассказывали, что однажды пришел к Верзилиным Лермонтов в то время, как Эмилия, окруженная толпой молодых наездников, собиралась ехать верхом куда-то за город. Она была опоясана черкесским хорошеньким кушаком, на котором висел маленький, самой изящной работы черкесский кинжальчик. Вынув его из ножен и показывая Лермонтову, она спросила его:
«Не правда ли, хорошенький кинжальчик?».
«Да, очень хорош, — отвечал он, — им особенно ловко колоть детей», — намекая этим язвительным и дерзким ответом на ходившую про нее молву. Это характеризует язвительность и злость Лермонтова, который, как говорится, для красного словца не щадил ни матери, ни отца. Так, говорили, поступал он и с Мартыновым, при всяком удобном случае отпуская ему в публике самые едкие колкости» [170, 167].
Не этот ли намек Лермонтова вызвал у Эмилии желание убить его «из-за угла»? Стоит заметить, что вокруг имени Эмилии Александровны ходило много разных слухов, но сама она ничего не говорила по этому поводу, и в печать, казалось, ничего не просочилось. Ответ нашелся в рукописи декабриста В.С. Толстого и в некоторых других воспоминаниях.
Толстой, служивший на Кавказе в Тифлисе и хорошо осведомленный о разнообразных интригах, тайнах «кавказского двора», писал о шумном романе Эмилии с князем Барятинским, который довольно быстро закончился, после чего Эмилии пришлось избавиться от плода любви.
Арнольди, описывая в своих записках семейство Верзилиных, также отметил, что одна из дочерей — Эмилия, которую прозвали бело-розовой куклой, была известна на Водах своей романтической историей с Владимиром Барятинским, по прозвищу « lе mougik » [53][15, ф. 178, 4629 «а», л. 37; 115, 466].
Нашелся и еще один свидетель. Василий Инсарский, вспоминая о знакомстве с князем Барятинским, в своих «Записках» писал: «Мне было известно, что перед нашим знакомством он только что вернулся с Кавказа, куда ездил, кажется, лечиться. Потом скоро сделалось мне известным, что он сорвал там ту знаменитую «кавказскую розу», которая прославлена в сочинениях Лермонтова. Факт этот явился вскоре достоверным, когда получив от князя Александра Ивановича следующий ему конец, князь Владимир немедленно поручил мне же отправить на Кавказ, разумеется на другое имя 50 тысяч рублей, назначенные этой розе. Розу эту я видел позднее в 1853 году в Кисловодске и даже познакомился с ней. Она вышла впоследствии замуж за некоего ставропольского господина и во время моего знакомства имела более основания называться тряпкой, чем розой. Это была маленькая старушка, как печеное яблоко, и даже с некрасивой фигурой, с какими-то зеленоватыми глазами, хотя по общим отзывам, в ранней молодости она была действительно красавицей» [101, 45].
Вне всякого сомнения, в мужских компаниях Пятигорска эта история обсуждалась, и, вполне вероятно, с прибавлением пикантных подробностей. Лермонтов, имея характер человека, который не лезет в карман за словом, при первом же удобном случае уколол Эмилию, тем более, что к этому времени ее отношение к поэту было весьма прохладное. Как видим, у «Розы Кавказа» были основания обижаться на поэта, и эту обиду она сохранила до конца жизни.
Почему Лермонтов позволил себе такую дерзость? Во-первых, чувство обиды отвергнутого поклонника, а во-вторых, его, скорее всего, возмущало ханжество Эмилии: она любила рассуждать о нравственности, не являясь ее образцом. Теперь становится понятным экспромт поэта, относящийся к лету 1841 года:
За девицей Emilie
Молодежь как кобели.
У девицы же Nadine
Был их тоже не один;
А у Груши в целый век
Был лишь Дикий [54]человек.
В примечаниях к статье Мартьянова можно найти еще такое дополнение к характеристике Эмилии Александровны: «Вообще эта женщина, в жилах которой текла польская кровь (по матери), держала себя, по словам Чилаева, весьма загадочно и неровно. Как особа весьма красивая, она знала себе цену, мечтала о рыцарях без страха и упрека и снисходила до простого смертного, потом опять возносила свои взоры горе и снова опускалась на землю. Сегодня она была слишком горда, завтра слишком снисходительна. Одних манила, к другим бежала… и кончилось тем, что смогла наконец пристроиться за Акима Павловича Шан-Гирея, родственника и товарища детских лет Лермонтова».
В день свадьбы ей уже стукнуло 36 лет. По-видимому, не случайно она выбрала мужем Шан-Гирея. Этот брак давал ей возможность в глазах еще живших современников и очевидцев спрятаться за спину мужа, которого все уважали» [131, 86].
Читать дальше