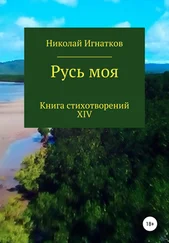В области устных преданий и фольклора летопись сохранила далеко не так много, как хотелось бы историку, но и то, что дошло до нас на ее страницах, свидетельствует об интересе ее составителей к народному творчеству, к местным преданиям как историческому источнику, хотя бы они и исходили от людей, которые «бяху погани и невеголоси». Интерес этот, на наше счастье, не был заглушен церковной идеологией, как бы она сильно ни влияла на образ мыслей и на изложение летописца. Громадная ценность летописи заключается в том, что она не чуждалась живого устного творчества и сохранила фрагменты подлинного фольклора с отразившимися в нем историческими воспоминаниями — взять хотя бы такие общеизвестные примеры, как пословицы «погибоша аки Обре» и «беда аки в Родне».
В области ранней истории Русской земли, излагаемой в летописи, церковно-исторический элемент, конечно, отпадает, поскольку церковное предание в полной мере вступает в силу лишь со времени крещения Ольги и особенно христианизации Руси при Владимире. За вычетом церковно-исторического предания у нас остается полуисторический, полусказочный устный материал, относительно которого неизбежно возникает вопрос: народное предание или княжеское и дружинное? А вслед за этим вопросом возникает и другой, непосредственно связанный с темой настоящей работы: если мы говорим о дружинном предании, то какова здесь роль варяжского элемента? Ответ на этот вопрос я попытаюсь дать в своем дальнейшем изложении по мере и на основании рассмотрения целого ряда летописных преданий, а пока ограничусь лишь следующими замечаниями. Варяги, несомненно, были весьма видной и активной составной частью княжеской дружины, но наряду с ними в нее входили и представители местной, славянской, знати и верхов городского населения. Не следует при этом забывать, что возникновение русских городских центров не стоит в связи с появлением варягов на Руси. Если варяги и сыграли значительную роль в развитии древнерусской торговли, в освоении и расширении торговых путей и т. д., то главные городские центры Древней Руси основаны, во всяком случае, не ими, и общественный строй древнерусского города складывался и развивался на местной почве независимо от их появления на Руси и раньше, чем это произошло.
Что касается социального характера дружины, то мы знаем, что общество Киевской Руси стояло на грани старого общинного строя и слагавшегося в процессе его разложения нового, феодального. В эту переходную эпоху древнерусское общество еще не утратило свойственной начальной поре становления классового общества сравнительной легкости перехода из одного социального слоя в другой. Возьмем, например, известное предание о сыне кожевника, победившем богатыря-печенега, после чего Владимир «великимъ мужемъ створи того и отца его» (Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку под 992 г.). Можно думать, что здесь перед нами не только красивая легенда в демократическом духе, но и какое-то отражение подлинных общественных условий того приблизительно времени, к которому ее приурочивает летописец. Знать с ее привилегированным положением и экономической силой, выросшими на почве разложения родовых связей и территориальной общины, обрисовывается перед нами в это время уже достаточно четко, а в XI в., в процессе дальнейшей феодализации общества, мы видим остро выраженные социальные противоречия, нашедшие себе выражение в восстаниях смердов. Но княжескую дружину раннего периода (IX–X вв.) еще нет оснований рассматривать как вполне замкнутую, строго очерченную аристократическую корпорацию.
Если говорить о дружинном предании как об особой категории устного творчества, то оно же благодаря вхождению в состав дружины местных людей, органически связанных с теми социальными слоями, из которых они вышли, становится достоянием более широких кругов населения, становится народным. Несомненно, что в зависимости от условий и от событий сказания, касающиеся представителей верхушки местного общества, влившихся в состав княжеской дружины, могли отражать в себе и отрицательное отношение к ним. Представим себе, например, что о Яне Вышатиче, подавлявшем восстание смердов в Ростове и на Белоозере в 1071 г., сложились бы в этой среде предания — и не только в этом крае, где он был пришельцем: они, очевидно, менее всего стали бы изображать его с сочувствием [332]. Сам Ян, о рассказах которого летописец под 1106 г. отзывается как о своем устном источнике, очевидно, со своей стороны, излагал события с точки зрения той среды, к которой принадлежал.
Читать дальше
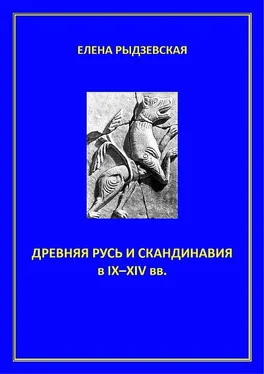




![Анатолий Фоменко - Книга 2. Расцвет царства[Империя. Где на самом деле путешествовал Марко Поло. Кто такие итальянские этруски. Древний Египет. Скандинавия. Русь-Орда на старинных картах]](/books/156934/anatolij-fomenko-kniga-2-rascvet-carstva-imperiya-gde-na-samom-dele-puteshestvoval-marko-thumb.webp)