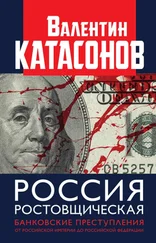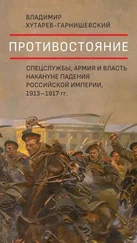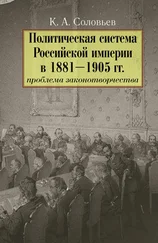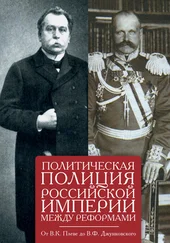По мнению исследователя В.С. Измозика, понятие «политический сыск» является частью более общего понятия «политический контроль». Причем «если политический сыск (розыск) – дело определенного ведомства (прежде всего политической полиции), то политический контроль предполагает сотрудничество ряда государственных структур, в том числе политической полиции» 59. На мой взгляд, понятие «политический контроль» применимо к модерным обществам, в которых политика является частью легального пространства, – соответственно, данный термин корректен по отношению к ситуации после октября 1905 г.
Вместе с тем в данной работе невозможно отказаться от использования термина «политическая полиция», т.к. он является неотъемлемой частью исследовательского лексикона. Возможно лишь оговорить определенную нерелевантность этого термина как повседневному бюрократическому дискурсу, так и юридической терминологии, языку законодательства изучаемой эпохи.
Также стоит отметить, что в данном исследовании в качестве взаимозаменяемых синонимов употребляются термины «политическая полиция» и «политический сыск» и совсем не используется термин «охранка», который часто можно встретить в качестве обобщающего понятия, – помимо того, что это понятие несет в себе явно выраженные негативные смысловые коннотации революционного языка, оно еще и исторически некорректно, т.к. охранные отделения были лишь частью отделений политической полиции, причем местного, а не центрального уровня.
Терминологический хаос во многом оказался следствием всплеска интереса к политической полиции Российской империи в 1990-е гг., который – всплеск – состоял в появлении большого количества некачественной литературы 60, ставшей впоследствии частью и научной историографии 61. Так, отсутствие архивных материалов с соответствующим оформлением библиографии является чертой не только публицистических, но и ряда исследовательских работ 62, которые при этом в наибольшей степени используют понятия «охранка» и сопутствующий ему термин «провокация». Стоит согласиться с констатацией еще начала 1990-х гг. авторов сборника «Полиция Российской империи XIX – нач. ХХ вв.»: «Все, что связано с охранными отделениями… запутано публицистикой последних десятилетий» 63.
Кроме того, я полагаю некорректным термин «спецслужбы» по отношению к изучаемым мной учреждениям в период до 1905 г., и его также игнорирую в своей работе.
Есть сложности и с корректным наименованием тех явлений, которые были объектами внимания со стороны политической полиции. Принципиально важным для моего исследования – и аутентичным делопроизводственной переписке – является термин «легальный», исследование которого в литературе о государственном аппарате рубежа XIX–ХХ вв., по большому счету, отсутствует. Речь идет о тех людях и институтах, которые действовали не в подполье, а легально, это в первую очередь касается самоуправления, периодической печати, общественных организаций, профессуры 64. Определение «легального» содержится в 3-й главе настоящего исследования, в целом же я использую в качестве обобщающего собственный термин «легальное пространство», что облегчает исследовательскую презентацию материала, несмотря на отсутствие подобного объединяющего термина в бюрократическом языке рубежа XIX–ХХ вв.
Историографическая традиция рассматривает «либералов» в качестве составной части так называемого общественного движения, однако что такое «общественное движение» в целом? В литературе о политической полиции этот вопрос не решен во многом по причине того, что не становился объектом целенаправленного исследовательского внимания.
Аутентичные же термины, которые пользовались большой популярностью в делопроизводственной переписке деятелей политической полиции, а затем – и в их воспоминаниях – это «противоправительственное движение» и «революционное и оппозиционное движения».
С революционным движением, его границами, участниками, методами борьбы с ним и т.д., всё более-менее понятно; это была приоритетная тема для советской историографии 65, сохраняется к ней интерес и в современных исследованиях 66.
Общественное движение как объект внимания политической полиции выглядит размытым. М.А. Осоргин под общественным движением, видимо, понимал легальное партийное 67. О культурно-просветительских учреждениях и их деятельности как объектах внимания политического сыска писал Н.П. Ерошкин 68. В.Г. Дорохов в параграфе об общественно-политическом движении относит к нему студентов, учителей и социал-демократов 69. О политических партиях и общественных движениях упоминает Ю.А. Реент 70. Ч. Рууд и С. Степанов в период после 1905 г. включают в «либеральное движение» такие разнохарактерные явления, как профсоюзы, Союз союзов, организаторов банкетной кампании 1904 г. и масонов, уделяя приоритетное внимание последним (10-я глава их книги так и называется «Протоколы, масоны, либералы»). Рууд и Степанов критикуют политическую полицию за «активную деятельность против оппозиционного движения во главе с либералами» вместо того, чтобы предложить верховной власти «сотрудничать с либералами во имя политического переустройства Российской империи» 71. Очевидная из этого утверждения значимость «либералов» как объекта внимания политической полиции противоречит содержанию самого исследования, сконцентрированного на политическом сыске и революционерах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
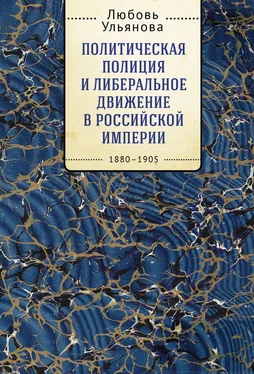
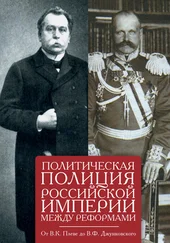

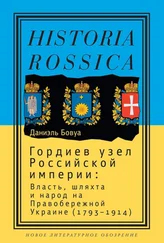
![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)