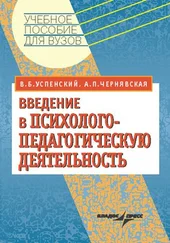«Министерская чехарда» 1916 г. затронула и Министерство внутренних дел империи. На этой должности до Февральской революции побывали 4 человека (Хвостов А. Н.; Штюрмер Б. В; Хвостов А. А. и Протопопов А. Д.). Сменилось три директора Департамента полиции (Кафафов К. Д; Климович Е. К и Васильев А. Т.), а также два заведующих центральным органом политического розыска — Особого отдела ДП МВД (Броецкий М. Е. и Васильев И. П.). Частые и нередко слабо обоснованные кадровые перестановки однозначно влияли в негативном плане и на агентурно-оперативную, и на информационную деятельность всех подразделений службы внутренней безопасности. Складывается впечатление, что высшие власти почти не обращали внимание на некоторые процессы, подрывающие устои государства в условиях продолжающейся войны. Предложения по совершенствованию структуры и повышению эффективности работы «иммунной системы» режима игнорировались военным руководством, Советом министров, да и самим царем. Чего, к примеру, стоит факт отклонения Ставкой Верховного Главнокомандующего в феврале 1916 г. проекта МВД об объединении усилий политической полиции и военной контрразведки в деле обеспечения безопасности страны от внутренних угроз. Нереализованным и даже нерассмотренным остался проект создания контрразведки с некоторыми функциями политического розыска, составленный в августе 1916 г. внештатным советником председателя совета министров И. Ф. Манасевичем-Мануйловым.
Понятно, что любая перестройка структуры требует времени и сказывается на результативности работы любого государственного аппарата. Но царские власти даже не воспринимали большинство конкретных рекомендаций политической полиции, направленных если не на устранение, то на минимизацию внутренних угроз царскому режиму. Здесь стоит привести сведения последнего начальника петроградского отделения по охранению общественной безопасности Глобачева. К примеру, он еще в конце января 1916 г. представил руководству серьезный аналитический доклад о продовольственном положении в Петрограде и во что может вылиться сложившаяся ситуация в плане политической стабильности. В течение января-февраля 1917 г. столичное охранное отделение не менее чем раз в неделю, а иногда и ежедневно информировало Департамент полиции и другие ведомства об обстановке в городе, в том числе и о ситуации (в смысле надежности) в воинских частях гарнизона. Однако, военное командование не хотело верить в сомнения политической полиции относительно возможности отказа войск защищать верховную власть. Никак не реагировали и руководители гражданских структур. Итог известен — произошли события, о которых предупреждали органы государственной безопасности.
Лица, пришедшие к власти после Февральской революции, совершенно не учли печальный опыт царского режима. Более того, они незамедлительно принялись за полный демонтаж старой «иммунной системы». Они даже не рассматривали варианты, при которых она могла бы в течение определенного времени сдерживать правых и даже левых радикалов. Ведь факт, что ни одно жандармское управление, ни один орган политической полиции не противодействовал новой власти, не предпринимал каких-либо действий по реставрации монархии. Большая часть руководителей политической полиции не пыталась скрыться и ожидали своей участи практически на рабочих местах. Тоже самое можно сказать и о военных контрразведчиках.
На фоне нараставшей усталости от многолетней войны и антивоенной агитации брожение в солдатской массе в частях действующей армии и в тыловых военных округах стремительно прорвалось массовыми митингами, принятием различных постановлений и резолюций по проблемам жизнедеятельности войск. Особое значение в этом плане приобрел «Приказ № 1» Петроградского Совета, в соответствии с которым столичный гарнизон фактически выводился из подчинения командованию. Именно с него началось повсеместное создание в войсках комитетов разного уровня, серьезно подрывавших основы старой армии. Дисциплина в войсках падала день ото дня, боевая мощь рушилась далеко не от снарядов немецких сверхмощных орудий.
В обстановке усиливающегося с каждым днем хаоса на фронте и в тылу многие контрразведчики, призванные оберегать боеспособность армии и флота, приходили к печальному заключению, что борьба со шпионажем, а тем более с иными видами подрывной деятельности в таких условиях практически невозможна. Действия официальных властей не оставляли им реальных надежд на будущее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Александр Зданович Тайные службы России : структуры, лица, деятельность [учебное пособие] обложка книги](/books/430623/aleksandr-zdanovich-tajnye-sluzhby-rossii-struktur-cover.webp)



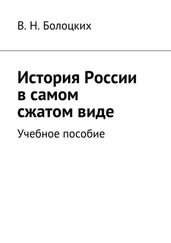
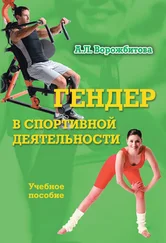
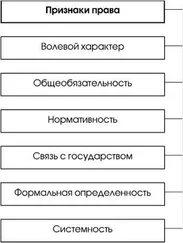
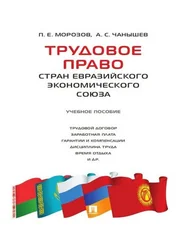

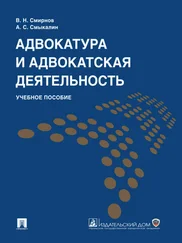
![Андрей Романов - Теория и психология рекламной деятельности [учебное пособие]](/books/398226/andrej-romanov-teoriya-i-psihologiya-reklamnoj-deyate-thumb.webp)