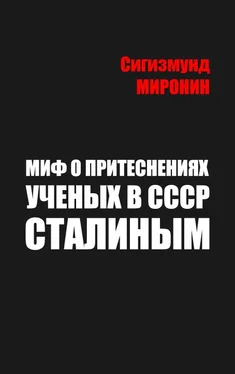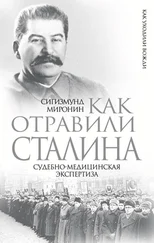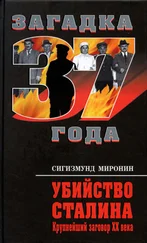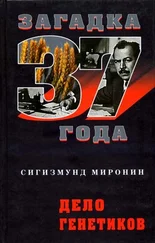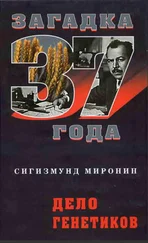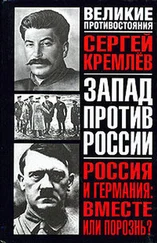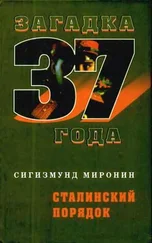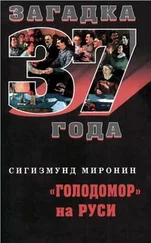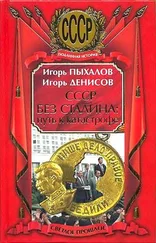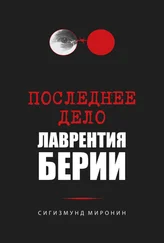Но ведь Павлов работал у Людвига и Гейденгайна. Он прошел их школу, испытал их влияние, как и влияние Клода Бернара и других выдающихся западных физиологов. Только опираясь на их достижения, он смог открыть новую главу в развитии нейробиологии. Согласно же версии Быкова, Майорова и других, до того как в физиологию пришел Павлов, в ней (как и в психологии) царили одни идеалистические заблуждения.
Некоторое внимание участники обсуждения уделили языкознанию. И, наконец, после дискуссии по языкознанию особое внимание выступавшие на сессии двух академий уделили проблеме второй сигнальной системы. Распространенным обвинением стало подозрение в отступлении от учения о второй сигнальной системе или его извращении. Но такого «учения» у Павлова фактически не было. Действительно, в конце 20-х — начале 30-х гг. на так называемых павловских средах и в последних статьях он высказывал положение о том, что наряду с сигналами, которые регулируют поведение, поступая непосредственно от предметов окружающей среды, есть и сигналы речевые, присущие лишь человеческому поведению и являющиеся, по его словам, «чрезвычайной прибавкой к деятельности человеческого мозга». Эта мысль о роли речевых сигналов зародилась у Павлова в связи с необходимостью определить различия в деятельности головного мозга человека и животных. Однако ни в конкретном экспериментальном материале, ни в практике физиологических исследований эта мысль Павлова серьезного развития не получила. Тем не менее, в связи со «сталинским учением о языке» павловское высказывание трактовалось как указание на адекватный этому учению физиологический механизм.
Отдельные соображения о второй сигнальной системе принадлежали акад. Л. А. Орбели, ставшему главным объектом критических нападок на «Павловской сессии». Правильная мысль Орбели о том, что слова и другие культурные знаки (нотные, буквенные и др.) не имеют ничего общего с теми конкретными явлениями, которые они обозначают, была расценена академиком Г. Ф. Александровым как извращение ленинской теории отражения. Александров ссылался на критику Лениным теории знаков или иероглифов, выдвинутую, как известно, Гельмгольцем и поддержанную Г. В. Плехановым. Отмечая, что изображение никогда не может сравняться с моделью, Ленин разграничивал изображение и условный знак. Считать ощущение условным знаком, символом, иероглифом значит, согласно Ленину, вносить ненужный элемент агностицизма. Но Ленин имел в виду применение понятия об условном знаке к ощущению, чувственному познанию. Орбели же говорил об отсутствии сходства между «звуковой материей» слова и его значением, его смысловым содержанием. И действительно, между умственным образом (понятием), запечатленным в слове, и выражающими его звуками не может быть другого отношения, кроме знакового.
Акад. Л. А. Орбели — в первом выступлении сказал: «Критика направлена в адрес определенных лиц… Дело в том, что если намечены определенные лица, которые должны подвергнуться более или менее строгой критике, то в случае свободной научной дискуссии чрезвычайно важно было бы ознакомить этих лиц с тем, в чем их собираются обвинять и критиковать. Даже когда речь идет о преступниках, то им дают прочесть обвинительный акт для того, чтобы они могли защититься или высказать что-либо в свою защиту. В данном случае этого не было сделано, и мы -несколько подсудимых — оказались в трудном положении» [395] 395 . Научная сессия… С. 165.
. Орбели продолжал подвергаться нападкам. Вторично выступив, он признал свои ошибки, извинившись за то, что допустил непозволительное сравнение с обвиняемыми и преступниками [396] 396 . Научная сессия… С. 501.
.
На несуразность создания группы «антипавловцев» обратил внимание один из, быть может, самых честных участников сессии — Н. А. Рожанский. «Я, — сказал он, — был повергнут в большое недоумение объединением лиц и качеств трех таких разных физиологов, как академик Орбели, академик Бериташвили и действительный член Академии медицинских наук Анохин. Простите меня за некоторую вольность выражений, но если взять три предмета: яблоко, колесо и Чичикова — все они имеют некоторое общее качество округлости. Но если вы попробуете их на практике соединить, то ни геометрически, ни химически, ни биологически, ни социально — никак между собой они не совмещаются». Равным образом, подчеркивал Рожанский, совершенно недопустимо объединять указанных физиологов в некую группировку, занимающую одну и ту же позицию [397] 397 . Научная сессия… С. 334.
. К аргументации Рожанского никто из выступавших не только не присоединился, но его самого подвергли критике, а после сессии лишили кафедры.
Читать дальше