Таким образом, идет ли речь о теологии, о mirabilia или о повседневной жизни, соответствие между обманчивой внешностью вещей и скрытыми за ней истинами всегда проводится на нескольких уровнях и выражается различными способами. Эта связь может быть прямой, аллюзивной, структурной, изобразительной, звуковой, но она также может иметь эмоциональную, магическую или сновидческую подоснову, а это уже само по себе затрудняет ее воссоздание. Тем более что наши современные знания и способы восприятия, отличные от тех, что были характерны для средневековых мужчин и женщин, мешают нам восстановить логику и смысл символа. Возьмем простой пример из области цвета. В нашем представлении синий — это холодный цвет; для нас это очевидность, если не истина. В средневековой культуре, напротив, синий цвет — теплый, так как это цвет воздуха, а воздух — теплый и сухой. Историк искусства, который решит, что в Средневековье синий, как и сегодня, — это холодный цвет, жестоко ошибется [14] Pastoureau М. Bleu. Histoire d’une couleur. Paris, 2000, p. 114-122.
. И ошибется еще больше, если станет руководствоваться в своих исследованиях спектральной классификацией цветов, или представлением об одновременном контрасте, или же противопоставлением основных и дополнительных цветов: все эти мнимые истины о цвете неизвестны ни средневековым художникам, ни их заказчикам, ни публике. Об этом следует помнить не только в связи с представлениями о цвете и цветовосприятии, но также и в связи с другими областями знания (о животных, растениях, минералах и т. д.), и с тем, как они претворяются в материальной культуре. Например, лев в средневековой христианской Европе не воспринимался как неведомый экзотический хищник — живописное или скульптурное изображение этого зверя можно увидеть в любой церкви, так что он практически являлся частью повседневности. Точно так же частью повседневности являлся и дракон, дьявольское создание, символ Зла, который повсюду попадался на глаза и занимал в средневековом сознании значительное место.
Итак, при изучении символов не только не следует неосмотрительно проецировать на прошлое наши собственные знания, ибо те общества, которые предшествуют нам во времени, ими не обладали; не следует также проводить слишком жесткую границу между реальным и воображаемым. Для историка — а для историка Средневековья, пожалуй, в особенности — воображаемое всегда является частью реальности, воображаемое само по себе — реальность.
Отклонение, часть и целое
Средневековый символизм не ограничивается этимологическими спекуляциями и принципом мышления по аналогии: часто, особенно в изображениях и литературных текстах, используются приемы, которые можно было бы назвать «семиотическими». Речь идет о — подчас механических, а иногда и весьма изощренных — приемах распределения, расположения, объединения или противопоставления различных элементов внутри целого. Наиболее часто встречается прием отклонения: в перечне или в группе есть персонаж, животное или предмет, который во всем подобен остальным за исключением одной маленькой детали: именно эта деталь выделяет его и наделяет его значением. Либо персонаж отступает от привычного нам образа, от той роли, которую он должен играть, от того облика, который за ним закрепился, от тех отношений, которые сложились у него с другими персонажами. Отклонение от обычая или нормы позволяет задействовать «экспоненциальную» символическую логику, которую антропологи иногда называют «стихийной» и смысл которой состоит в том, что действующие внутри нее закономерности и приемы нарушаются, выводя на следующий, более высокий уровень. Приведем простой пример. В средневековой иконографии все персонажи, которые носят рога, — это персонажи подозрительные или демонические. Рог, как любые телесные выступы, несет в себе отпечаток животной и трансгрессивной природы (например, с точки зрения прелатов и проповедников переодеться в рогатое животное — это еще хуже, чем переодеться в животное без рогов). Однако существует одно исключение: Моисей, которого иконографическая традиция с давних пор наделила рогами из-за неверного толкования одного места в Библии и неправильного перевода древнееврейского слова. Тем самым она его возвеличила. Моисей, рогач среди рогачей, которого, конечно же, нельзя заподозрить в чем-то дурном, выделяется и вызывает восхищение как раз благодаря своим рогам. Напротив, если в иконографии дьявол, который обычно носит рога, оказывается лишен этого атрибута, то он непременно будет казаться еще более устрашающим, чем дьявол рогатый.
Читать дальше
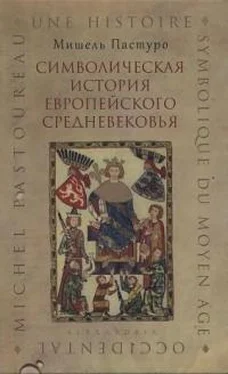
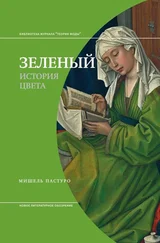





![Мишель Пастуро - Дьявольская материя [История полосок и полосатых тканей]](/books/414747/mishel-pasturo-dyavolskaya-materiya-istoriya-poloso-thumb.webp)



