Анализ этого стиха обычно касался проблемы прокламативного «Я» и просодии. Значение трех эпитетов и постепенное нарастание смысла, кажется, совсем запутали критиков, тем более что сделанная от руки запись Нерваля рядом с этим стихом в рукописи Элюара действительно может сбить с толку. См.: Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 18-24.
О возможных значениях постановки рук и головы см.: Gamier J. Le Langage de Г image au Moyen Age. Paris, 1982, p. 165-170, 181-184.
Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 44-45.
Следует подчеркнуть, что на страницах «Манесского кодекса» присутствует множество музыкальных инструментов. Их идентификация, а также их названия по-прежнему остаются под вопросом; поэтому не нужно удивляться тому, что Нерваль принял виеллу за лютню, а кларикорд — за лиру.
Другие элементы сонета можно также связать с «Манесским кодексом». Например, звезду (строка 3), которая, так же как и роза, является лейтмотивом миниатюр. А вторая часть 5-й строки («...ты, утешившая меня») вполне могла быть подсказана сценами, где поэта или рыцаря утешает дама (fol. 46v, 76v, 158, 179, 249v, 252, 300, 371 и т. д.). Впрочем, ввиду того, что подобные сцены представлены очень широко, а эта часть строки сама по себе поливалентна, утверждать этого нельзя.
Сомнения отпадут сами собой, если выделить содержащееся в нем ассоциации или оппозиции: север / юг, христианское Средневековье / языческая античность, Германия / Италия, Любовь / Смерть, двойственность / единичность.
По поводу этих четырех редакций см. примечание 22. Слова или формулировки менялись редко. Зато значительные изменения коснулись пунктуации, прописных букв и типографских особенностей (выделение курсивом некоторых слов).
Название «Судьба» появляется в рукописи Элюара. Вопрос о его происхождении стал предметом научных споров. См., например: Richer J. Nerval: experience et creation, p. 556; Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 13- 17, 126-132.
В восьмой главе своего романа Вальтер Скотт, описывая сражения на турнире при Эшби, вводит в повествование неизвестного рыцаря, на щите у которого изображен вырванный с корнем дуб, а в качестве девиза написано испанское слово Desdichado. Это Уилфред Айвенго, который поссорился со своим отцом Седриком Саксонцем и участвовал в турнире инкогнито.
Перевод El Desdichado как Le Desherite, «Лишенный наследства», часто оспаривался, в частности см.: Kneller J. W., art. cit. Однако сегодня он одобряется большинством исследователей творчества Нерваля, хотя испанское слово desdichado исходно означает «обездоленный», «несчастный». Видимо, именно так его понимал и Нерваль. Между тем, первым допустил эту смысловую ошибку сам Вальтер Скотт: в тексте «Айвенго» он перевел Desdichado английским словом disinherited (лишенный наследства), спутав таким образом испанские слова desdichado и desheredado.
Mittler Е., Werner W. (Hg.) Codex Manesse, op. cit., S. 216-217, справка F39.
Луи Дуэ-д’Арк (1808-1882), выпускник Национальной школы Хартий, архивист, был первым французским ученым, предпринявшим научное издание источников средневековой геральдики (печатей, гербов, геральдических трактатов). Вместе с тем он был связан со многими художниками и писателями. См.: Bibliotheque de l’Ecole des chartes, t. 43, 1882, p. 119-124, et t. 46, 1885, p. 511-528.
См. каталог выставки: Gerard de Nerval. Exposition organisee pour le centieme anniversaire de sa mort. Paris, 1955, notice 72, p. 19.
О связях Нерваля с Германией см. фундаментальный труд: Dedeyan С. Gerad de Nerval et l'Allemagne, Paris, 1957-1959, 3 vol.
Rhodes S. A. The Friendship between Gerard de Nerval and Heinrich Heine // French Review, t. 23, 1949, p. 18-27; Du Bruck A. J. Gerard de Nerval and the German Heritage. Hague, 1965.
Minnesinger aus der Zeit der Hohenstaufen. Fac-Simile der Pariser Handschrift. Zurich, 1950.
Все эти работы опубликованы в: Abhandlungen der koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, phil.-hist. Klasse (1842, 1845, 1850, 1852).
См. примечание 58.
Следовало бы, соответственно, изучить цвета и их семантику в произведениях Нерваля. Существенное, по всей видимости, влияние на него оказала геральдика, а также некоторые живописные школы. Пока такое исследование не предпринято, см.: Richer J. Nerval: experience et creation, op. cit. p. 133— 167 (глава “La race roug”); Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 59-61; Dunn S. Nerval coloriste // Romanische Forschungen, t. 91, 1979, p. 102-110.
Об этих интерпретациях см.: Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 25-29; Laszo P. El Desdichado, art. cit., p. 56-57.
Вообще интересно, не алхимия ли, эзотерика и символизм в большей степени пробудили интерес Нерваля к геральдике, нежели изыскания в области родословной и семейной истории или поэтическое очарование геральдического языка? Такая книга, как: Portal F. Des couleurs symboliques (Paris, Treuttel et Wiirz, 1837), которую он, несомненно, читал, должна была его к этому подтолкнуть.
Читать дальше
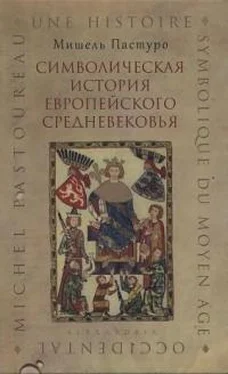
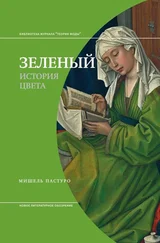





![Мишель Пастуро - Дьявольская материя [История полосок и полосатых тканей]](/books/414747/mishel-pasturo-dyavolskaya-materiya-istoriya-poloso-thumb.webp)



