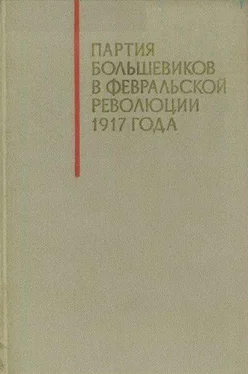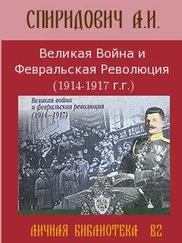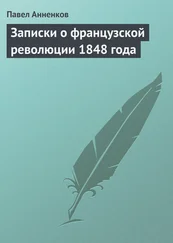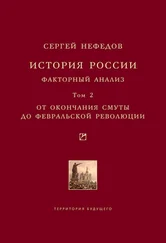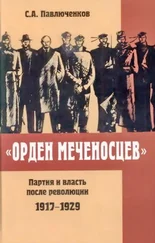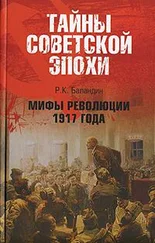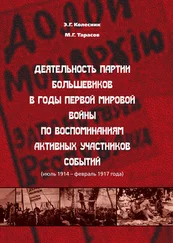Таким образом, за последние годы достигнут заметный прогресс в историко-партийных работах по Февральской революции. Однако некоторые важные вопросы еще не получили должного освещения и требуют дополнительной исследовательской работы. В частности, в нашей литературе все еще весьма схематично и не всегда правильно освещается деятельность Русского бюро ЦК в период империалистической войны и Февральской революции [36] Не составляет исключения в этом отношении и книга М. Москалева «Бюро Центрального, Комитета РСДРП в России» (М., 1964), в которой самой Февральской революции посвящено всего лишь несколько страничек.
, его контакты с Петербургским комитетом и местными организациями, роль В. И. Ленина, который даже в тяжелейших условиях того времени настойчиво направлял работу Бюро ЦК и других партийных органов в России. Слабо изучен процесс собирания и организации сил партии в канун Февральской революции. Из всех революционных партий только большевики имели тогда всероссийскую организацию, опиравшуюся на передовые слои пролетариата. Этот факт первостепенной исторической важности не получил достойного освещения в нашей литературе. Дальнейшего исследования требует и вопрос о степени идейного и организационного воздействия партии, ее руководящих центров на движение масс в февральско-мартовские дни 1917 г., вопрос о соотношении стихийных и сознательных элементов в процессе революции.
Известно, что меньшевистско-эсеровские писания о Феврале 1917 г. сводятся к абсолютизации революционной стихии, которая будто бы проложила себе дорогу к победе независимо от тех или иных партий. «Улица была окончательно завоевана рабочими массами, которые двигались точно лавина. Это было стихийное движение, в котором не было оформленной и непосредственной цели… Были ли тут попытки хоть какого-либо руководства — не знаю. Кажется, не были» [37] О. А. Ерминский. Из пережитого. М.—Л., 1927 стр. 141, 148.
— так описывает февральские события меньшевик О. А. Ерманский.
Еще больше преувеличивает стихийность февральского переворота Троцкий. В своей «Истории русской революции» он утверждает, что лидеры Бюро ЦК и Петербургского комитета «наблюдали движение сверху», они «колебались, проявляли неуверенность» и т. д. По мнению Троцкого, Февральская революция, начавшаяся снизу, «преодолевала противодействие собственных революционных организаций». Если это верно в отношении меньшевиков и эсеров, то применительно к большевикам представляет собой грубую клевету, охотно подхваченную буржуазной печатью.
Борьба с меньшевистско-эсеровской теорией «стихийности» Февральской революции и сейчас имеет актуальное значение, ибо за эту теорию ухватились современные буржуазные историки в целях обоснования фальшивого тезиса о якобы «непричастности» большевиков к Февральской революции [38] Так, американский историк У. Уолш в своей книге «Россия и Советский Союз», всячески преувеличивая роль стихийных элементов и начисто перечеркивая организующую роль большевиков, пишет: «Февральская революция ни в каком смысле не была большевистским или марксистским движением по своим причинам, организации или руководству. Она была хаотическим движением» (W. Walsh. Russia and the Soviet Union. Ann Arbor, 1958, p. 370).
. К сожалению, борьба с этой теорией не всегда ведется с правильных позиций. В исторической литературе 20-х годов стихийные элементы обычно выдвигались на первый план, а организующая роль большевиков преуменьшалась. Так, в IV томе «Истории ВКП(б)», вышедшем под общей редакцией E. М. Ярославского, особый акцент сделан на том, что «революция была стихийной» [39] «История ВКП(б)», т. 4. М.—Л., 1929, стр. 20.
. Но нельзя согласиться и с другой точкой зрения, когда стихийные элементы движения полностью сбрасываются со счетов и февральско-мартовские события 1917 г. изображаются так, будто от начала и до конца они развивались в строго организованном русле, будто каждый революционный акт масс был уже заранее расписан в планах большевистских организаций.
Подобная точка зрения ведет к недооценке инициативы и революционного творчества масс, негативному отношению к стихийному движению, как чему-то безусловно отрицательному в развитии революции. Освещение революционных событий с таких позиций мешает видеть всю их сложность, неизбежное переплетение стихийных и сознательных элементов, диалектику взаимосвязи между ними. Оно противоречит ленинской концепции революции. В. И. Ленин учил видеть реальную взаимосвязь между объективными и субъективными факторами исторического процесса. Недооценка или преувеличение роли одного из них приводит либо к абсолютизации стихийности движения, к отказу от направляющего воздействия на него партии, передовых слоев пролетариата, либо к пренебрежению объективными условиями борьбы масс, что ведет к отрыву от них и в конечном счете к авантюризму.
Читать дальше