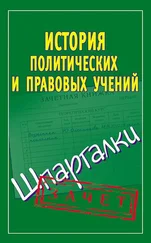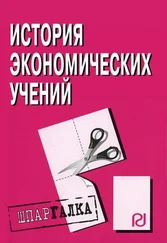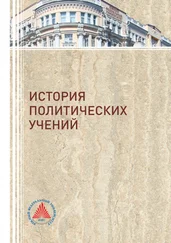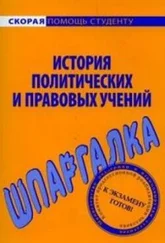Власть имущие и те политики, которые к этой власти стремились, не обременялись последствиями. Симптомы недоверия к власти и пренебрежения ко всему, что произносилось ее устами, переходили все границы. И кто знает, не явилась ли эпидемия этой болезни в СССР одной из причин разрушения общественно-политического организма, каковое имело место в ходе развала Советского государства? Оставляя ответ на этот вопрос исследователям новейшей истории и предупреждая возможные недоразумения на этот счет, заметим следующее: болезнь эта в первую очередь поражает политическую сферу; она способна распространяться на обыденные отношения людей [5] Предложения о замене слов по причине их «затертости» и неработоспособности звучали неоднократно: «санитарка» — «помощник медсестры», «дворник» — «смотритель двора», «посудомойка» — «оператор посудомоечного цеха», «доярка» — «мастер машинной дойки» и т. д., и т. п. И мало кого волновало, изменилось ли содержательное наполнение слова. Меньше всего думали об улучшении условий работы людей непривлекательных профессий — главное «задурить» голову сменой вывесок. «Затюканный Апостол» со сцен советских театров предлагал «новые идеи» и новые слова вместо «не убий», «не укради», «не обижай ближнего». Последние не увлекают массу. С ними президентом не станешь.
; имеет сугубо социальное происхождение и ведет свое начало от зарождения политико-правовых институтов.
Еще до Рождества Христова Сократ вынужден был предупреждать своих сограждан, дабы те хранили мужество и здравомыслие и не давали сбить себя с толку хитроумным людям, которые в угоду своему устремлению к власти беспринципно оперировали высокими понятиями. Очень уж легко было вследствие этого всякую мудрость почитать за шарлатанство! Мы-то теперь знаем, что калликлы находятся во все времена и смотрят они на дело так, как Номах в «Стране негодяев» С. А. Есенина: «Старая гнусавая шарманка этот мир идейных дел и слов. Для глупцов — хорошая приманка, подлецам — порядочный улов». Не устарели в связи с этим ленинские призывы проводить различие между фразами и действительными интересами: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов» [6] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 23. С. 47.
. Для России все сказанное имеет особую актуальность. Свидетельств много. Сошлемся только на В. Д. Федорова:
О, Русь моя!..
Огонь и дым,
Законы вкривь и вкось.
О, сколько именем твоим
Страдальческим клялось!
От Мономаховой зари
Тобой — сочти пойди —
Клялись цари и лжецари,
Вожди и лжевожди.
Ручьи кровавые лились,
Потоки слез лились.
Все, все — и левые клялись,
И правые клялись.
История политических учений дает историческую оценку идей и в то же время воспитывает уважение, утверждает авторитет исторически оправданных политических и правовых институтов общественной жизни. Разумеется, не в словах заключается дело, но в делах живет слово. Поэтому освоение всего политического наследия позволяет предупредить циничное отношение к светлым идеалам человечества, вызванное злоупотреблениями в словоупотреблении, и, возможно, предотвратить антиобщественное поведение, навеянное забвением тех подлинных ценностей, которые скрываются за высокими понятиями.
Может быть, именно причинами мифологического свойства обусловлены некоторые негативные оценки истории как науки и, соответственно, учебной дисциплины. Например, поэт П. Валери объявил историю самым опасным продуктом, вырабатываемым химией интеллекта, поскольку она оправдывает все, что пожелает, и не учит ничему, так как дает примеры всему. Из «уроков истории» можно извлечь любую политику, любую мораль, любую философию. Более того, история «опьяняет народы, порождает в них ложные воспоминания, усугубляет их рефлексы, растравляет их старые язвы, смущает их покой, ведет их к мании величия или преследования и делает нации ожесточившимися, спесивыми, невыносимыми и суетными» [7] См.: Моруа А. Литературные портреты. М., 1970. С. 264.
. Конечно, иногда история, говоря словами Ф. Шиллера, «вместо того, чтобы служить школой просвещения, должна довольствоваться жалкой заслугой удовлетворить наше любопытство», а иногда та же история знает времена похуже. Уже другой поэт пишет в стихотворении «История»:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу