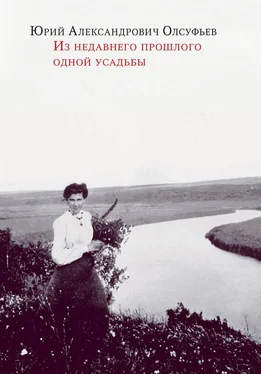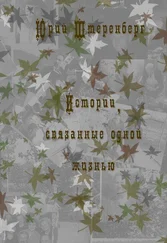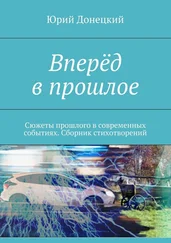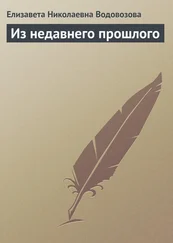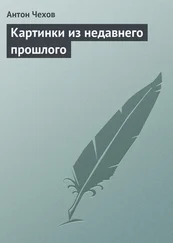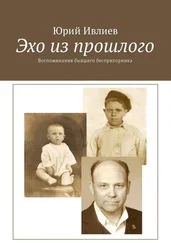В эту осень на Кавказ к в<���еликому> к<���нязю> Н<���иколаю> Н<���и-колаевичу> приезжал Гуч<���ков> под предлогом осмотра санитарного состояния армии… Я к нему первый не поехал, и он у меня не был, ограничившись письмом с выражением любезности по поводу виденных им в Батуме учреждений Земского Союза. В это же приблизительно время в один из моих приездов в Москву по делам Союза кн. Г. Е. Львов меня подробно расспрашивал о в<���еликом> к<���нязе> М<���ихаиле> А<���лек сандровиче>… [40]
* * *
Между охотничьим шкафом и юго-восточным углом комнаты помещался огромный диван, построенный когда-то дома, кажется, Петром Лапиным, или Артемычем, как звали этого мастера на все руки: он был и обойщиком, и маляром, и переплетчиком; брат его Тимофей Артемыч, хромой, из «приказных» людей, был десятки лет буецким конторщиком; он нюхал табак с мятой и по вечерам прочитывал, кажется, все газеты, получаемые через нашу контору, а когда случайно, бывало, встретит в газете нашу фамилию, то, тщательно подчеркнув это место красными чернилами, торжествующе нес мне его показывать. Оба они давно умерли. Диван был покрыт бессарабскими коврами; над диваном по восточной и южной стене, образуя прямой угол, была полка из черного шлюзного дуба для фотографий, рисунков и мелких вещиц, на стене же за полкой, над диваном, висел тоже бессарабский ковер – черный, с узором, напоминавшим писанки; ковер огибал угол и закрывал все пространство между полкою и диваном. В углу висела икона великомученика Георгия на коне, написанная Цехановским, в небольшом киоте карельской березы. На полке стояли: фотография г<���осударя> и<���мпе ратора> Н<���иколая> А<���лександровича> с собственноручною надписью «Графу А. В. Олсу фьеву» (моему отцу); фотография в<���еликого> к<���нязя> М<���ихаила> А<���лександро вича> молодым артиллерийским офицером; карандашный рисунок Нерадовского – карикатура на моего двоюродного брата Д. А. (графа Д. А. Олсуфьева), Митя с выражением читает нам «Медного всадника»; затем группа молодежи на Таврическом катке: тут в<���елики>е к<���нязья> Кир<���илл>, Бор<���ис> и Анд<���рей> В<���ладимирови>чи, Звегинцевы, Горчаковы, Урусовы и я, мальчиком лет 12, с моим воспитателем Mr. Cobb. Как живо вспоминается это время в Петербурге: кончили завтракать, моя мать с длинными перчатками желтой замши и порт-картом [сумочка для визитных карточек] в руках спешит по визитам, карета уже подана, спешит и высокий выездной Феодор в длинной темно-синей ливрее с серебряными гербовыми пуговицами и цилиндре с кокардой; а мы с Mr. Cobb на извозчике отправляемся в Таврический дворец. Там придворный каток, куда допускались самые лишь тесно связанные со двором. Но нас знают, и бритый старик-швейцар, похожий на римского сенатора в красном, привычно-почтительно нам кланяется. В огромном вестибюле толпятся выездные лакеи приезжающих дам; мы проходим ряд запустелых зал, которые живо говорят о веке Екатерины и пышного князя Таврического… Но вот и последний зал, где услужливый придворный лакей в серой тужурке с золотыми пуговицами надевает мне коньки и подает мне мои санки; он называет меня: «Ваше сиятельство». Его все благодарят, но имени его никто не знает. Выхожу на ледовый спуск: тут все знакомые – и взрослые и дети.
Часто, часто вспоминаю тебя, северная столица, моя родина. Вот морозное, туманное утро, огненной иглой блистает петропавловский шпиль; прогремела пушка, обозначая полдень, безучастным ревом заревели гудки Монетного двора, глухо промчалась карета по торцовой мостовой набережной, а куранты Петра и Павла, как в раздумье, бросая свои унылые звуки во мглу морозного воздуха, заиграли свой обыденный «Коль славен…» В этот час я, бывало, ребенком возвращался с прогулки в сопровождении няни или англичанки Летним садом к завтраку…
Далее на полке в светлой березовой рамке стояла большая фотография моего отца неуклюжим, коренастым молодым человеком в штатском. Это было вскоре после того, как отец мой поступил на математический факультет Московского университета. Дед мой – граф Василий Дмитриевич – уже несколько лет как скончался (он умер в Риме в 1858 году), бабушка графиня Мария Алексеевна жила тогда за границей, и отец мой был поручен попечению своей старушки-тетушки Екатерины Дмитриевны Мухановой. Тетушка Муханова рано овдовев (муж ее был убит в 12-м году своими же казаками, принявшими его за француза, в то время как он говорил по-французски со своими товарищами), жила в своем особняке в одном из стародворянских московских переулков недалеко от Арбата. Рассказывают, что она очень похожа была на свою мать – Дарью Александровну Олсуфьеву [41], от которой унаследовала весь тонкий и изысканный уклад времени Marie Antoinette; этим она очень отличалась от своей сестры Софьи Дмитриевны Спиридовой, всегда окруженной, по привычкам старого русского барства, карликами и шутихами, вносившими в дом ее грязь и безалаберность. Тетушка не была богата, но все у нее было хорошо: и туалет, и дом, и небольшая подмосковная, название которой я забыл, и старый дворецкий Bijou, и выезд.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу