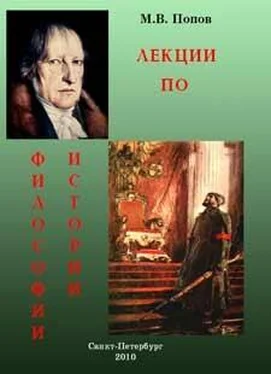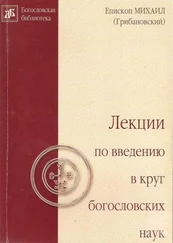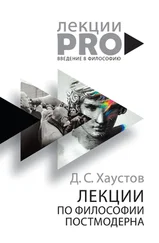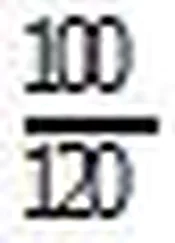9. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Материал прошлой лекции не охватывает исчерпывающе очень большой, сложный и принципиальный вопрос о сущности истории. Это, можно сказать, наш первый приступ применения к исторической проблематике той методологии, которая раскрыта в Учении о сущности во втором томе «Науке логики» Гегеля. Там много разных тем: сущность и форма, форма и материя, форма и содержание, существование, явление и закон этого явления, действительность, — то есть там, можно сказать, целый букет очень важных категорий, которые, конечно, будучи изученными, а это достаточно непросто, могут оказать большую помощь в исследовании исторической действительности и в истинном изображении ее, поскольку истина есть соответствие понятия объекту. Если мы берем несоответствующие понятия или не совсем те понятия, нельзя сказать, что мы не приближаемся к истине, но мы не приближаемся к истине с той полнотой, с которой возможно. Поэтому нельзя говорить, что если я этими категориями не владею, то я прямо совсем ничего и не знаю, так нельзя сказать. Но если мы хотим двигаться все ближе и ближе к истине, а в этом цель научного познания, то мы должны владеть всем арсеналом средств, и поэтому как люди, коих интересует истина, историки должны овладевать самым передовым научным аппаратом, который есть — диалектикой.
К сущности надо идти с ясным пониманием того, что такое сущность. Сущность — это отрицание непосредственного, причем отрицание не такое, которое дает другое непосредственное, не такое отрицание, что вместо одного бытия мы получаем иное, другое бытие, а отрицание бытия вообще. То есть если мы имеем дело с каким-то бытием, мы сразу говорим — это не сущность, значит, надо отрицать эту поверхность, которая теперь рассматривается как поверхность, и пойти глубже и искать в глубине. Так, мы установили, что несмотря на то, что общество — это общество людей, а люди — это животные общественные, трудящиеся, говорящие и разумные, несмотря на это в рамках частнособственнических формаций эта общественная природа людей, общественная сущность людей на поверхности не выражена. Наоборот, здесь как бы все частное, начиная с рабовладения, которое является строем, прогрессивным по сравнению с первобытнообщинным коммунизмом, затем идут феодализм и капитализм. Все они на поверхности представляются как общества, в которых царят частные интересы, царит частная собственность и непосредственно не проявляет себя общественный характер тех отношений, которые лежат в основе, скрыта общественная природа производства и самого общества. Несмотря на то, что это противоречит общественной природе общества. Тем не менее, это имеет место, но это поверхность. А если мы возьмем и будем рассматривать отрицание этой поверхности, то обнаружим сущность, а сущность такова, что и в рамках частнособственнических общественно-экономических формаций подспудно идет движение к обеспечению полного благосостояния и свободному всестороннему развитию всех членов общества. Можно говорить, что медленно идет, можно говорить, что оно идет зигзагообразно, можно говорить, что оно идет с торможениями, можно говорить, что не сразу и не у всех это идет, но идет. Идет несмотря на то, что отдельные индивиды пытаются общественными богатствами завладеть безраздельно и захватить в свою собственность столько, сколько никак не соизмеряется с нормальными потребностями развития, потому что это значительно больше разумных потребностей и соизмеряется лишь со стремлением к абстрактному богатству.
Маркс доказывал в «Капитале», что стоимость — это такая величина, у которой граница есть, но это безразличная количественная граница. Капитал — это самовозрастающая стоимость, не может быть много стоимости, стоимости всегда мало, то есть всегда может быть еще больше. С точки зрения потребителя, когда он смотрит на какойто огромный дом, принадлежащий одному владельцу или на сто домов в Москве, которые принадлежат одному владельцу, непонятно, зачем ему столько домов. Но для капиталиста это — не дома, это — капитал, недвижимость, с ростом цен на которую автоматически растет богатство этого человека, причем он вкладывает не в банк, который может лопнуть, и тем более не держит эти деньги наличными дома, где у него их могут украсть, а вкладывает в недвижимость и богатеет, не прилагая никаких усилий. В этом смысле он даже лучше поступает, чем рантье, который положил деньги в банк и живет на проценты. На поверхности экономической жизни мы видим весьма впечатляющие картины. Член Совета Федерации Пугачев получил за 2009 год 2 миллиарда рублей дохода. Или вот губернатор Самарской области Артяков, бывший генеральный директор АвтоВАЗа, о котором он вроде бы очень печется, получил за 2006 год один миллиард четыреста тысяч рублей и теперь, видите ли, думает, как спасти АвтоВАЗ.
Читать дальше