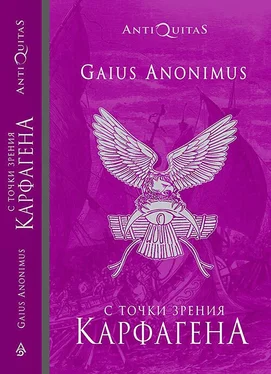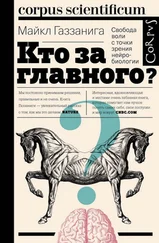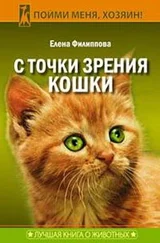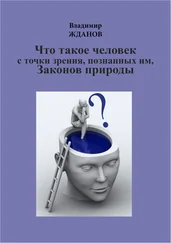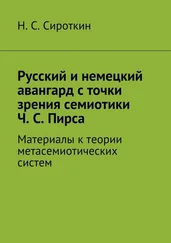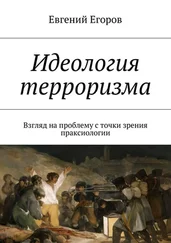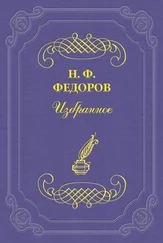Люди, населяющие Европу той эпохи, говорили на группе родственных — ностратических (от латинского nostra — «наши») — языков. Возникло своего рода «единое информационное пространство», обусловившее относительную общность археологических культур на огромных пространствах. Ученым даже удалось восстановить несколько сотен слов этого древнейшего наречия!
Выше мы говорили о выгодах великого дара членораздельной речи, который позволял накапливать свой и чужой опыт. А еще язык позволил развить первичную самоорганизацию рода или клана. Этого мощного фактора выживания были лишены неандертальцы. И вовсе не потому, что были неумны — к сожалению у потерянной ныне ветви человеческого рода заданное природой строение челюстей позволяло лишь издавать звуки с различными интонациями, а четко проговаривать слова — то есть обмениваться сложной информацией, — неандертальцы физически не могли.
Здесь самое время кратко рассказать о взаимоотношениях человека разумного неандертальского с обычным человеком разумным. Одно время в популярной литературе вошла в моду гипотеза о «самой первой мировой войне», в которой люди якобы победили неандертальцев. Это едва ли вероятно. Конфликты, несомненно, случались. Об этом свидетельствуют, например, костяки людей со следами неандертальских зубов — и кости неандертальцев со следами зубов человека. Многие исследователи полагают, что этот взаимный каннибализм носил ритуальный характер. Другие считают, что голод не тетка и в скудное время поедать себе подобных приходилось и людям, и неандертальцам.
Однако, генетические данные свидетельствуют о половых связях людей и неандертальцев — и, соответственно, об их общем потомстве, вполне жизнеспособном. А общее потомство означает, что были и вполне мирные контакты, либо с целью обмена, либо для переговоров о разграничении территорий охоты. Полукровок при этом не убивали. С огромной долей вероятности пигмент феомеланин, дающий рыжий цвет волос — прямое неандертальское наследие, у сапиенсов этого гена изначально не было.
Человек неандертальский ни в коем случае не был животным или «полуразумной обезьяной». Он хоронил близких, украшая могилу охрой, он был способен к абстрактному мышлению, а некоторые данные говорят о существовании неандертальского искусства. Но разумный неандерталец, кряжистый и физически гораздо более сильный, менял свое поведение чудовищно медленно, а люди мгновенно реагировали на меняющиеся внешние условия изменением поведения.
Неандерталец шел за стадами диких животных, а люди между кочевьями обустраивали свои становища в своего рода «базах» — удобных местах, и охотники, совершив многодневный переход за добычей, возвращались на «базу», где их ждали неспособные к охоте, то есть старые, малые, хворые и женщины. При истощении местных охотничьих ресурсов группа людей откочевывала на новое место. Словом, неандерталец приспосабливался к окружающей среде либо умирал, если это ему не удавалось. А люди, столкнувшись с опасными для жизни условиями, действовали принципиально иначе: они эти условия старались изменить.
Жилье (пусть это шалаш или навес из шкур), одежда и обувь, запасенная впрок еда, не имевший выхода овраг с крутыми стенами, куда сгоняли диких свиней «про запас», более тщательная обработка орудий — так люди приспосабливали окружающий мир для защиты от холода и голода.
Вопреки популярному мнению, «просто в пещерах» люди не жили — они создавали, если угодно, «пещерную инфраструктуру». Во-первых, пещеру не осушишь и не обогреешь. Гораздо комфортнее установить там сооружение из жердей, обтянутых шкурами, установленное на подстилку из травы и ветвей. В пещере можно укрыться от дождя или от хищников (расположив в ней этот вигвам или чум), устроить очажную яму, хранить запасы топлива и еды. Во-вторых, удобная пещера должна была располагаться рядом с источником воды и, упаси боги, не на путях хищных зверей к водопою. Она должна быть небольшой, без сквозняков. Если вы знаете такую пещеру, то есть вероятность, что в древности она была обитаема.
Люди жили родами, или кланами. Потребности охоты привели к первому этапу разделения труда: женщины все чаще оставались на стоянке и занимались обеспечивающим трудом, а мужчины-охотники уходили за добычей на 10-20 километров от основной стоянки, причем порой их походы длились несколько дней. Надолго уходить опасались, так как оставшиеся в становище нуждались в защите. Такое разделение привело к упорядочиванию половых связей и к табу на близкородственные сексуальные контакты. Эти парные связи, пожалуй, рано называть браком, так как они были, скорее всего, временны. Труд был коллективным и не нуждался в принуждении. Запасов свыше необходимого не делали, так как обмен был явлением в целом случайным и эпизодическим. Все было общим, без имущественного и общественного неравенства, что типично для первобытнообщинного хозяйства присваивающего типа.
Читать дальше