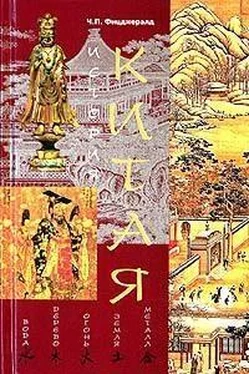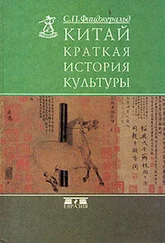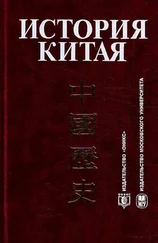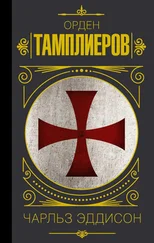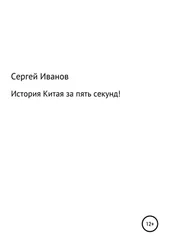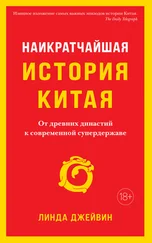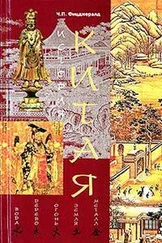Зло, причиняемое этой торговлей, давно уже стало очевидным. Помимо вреда, наносимого здоровью людей, пристрастившихся к опиуму (правда, таких было меньшинство), огромный ущерб был причинен экономике Китая из-за оттока серебра из страны. Налоги надо было платить серебром, однако большая часть населения получала заработную плату медными деньгами, а обменный курс меди и серебра не был фиксированным. Чем меньше серебра оставалось в стране, тем дешевле становились медные деньги, и все больше нужно было этих денег, чтобы заплатить за унцию серебра. Доходы от налогов уменьшались, цены росли, и все более невыносимым становилось бремя, которое несло на себе подавляющее большинство китайского населения.
Император Дао Гуан был человеком добропорядочным и чрезвычайно экономным. Он решил положить конец незаконной торговле, поскольку из-за нее государство теряло очень много денег, а опиум причинял вред здоровью людей. Эта задача была поставлена перед честным и решительным чиновником Линь Цзэсюем, которого в современном Китае считают национальным героем. Линь конфисковал огромные запасы опиума, которые были приготовлены на продажу, и публично уничтожил их. Британские торговцы не могли подать официальную жалобу по поводу уничтожения нелегального товара, тем не менее они потребовали компенсации причиненного ущерба. Линь отказался сделать это. Таковы были причины начала Опиумной войны, разразившейся в 1840 году. Плохо подготовленный к войне, особенно на море, Китай потерпел поражение и был вынужден подписать Нанкинский договор в 1842 году. Это был первый из так называемых «неравных договоров». Их подписание положило конец начальному этапу контактов Китая с Западом. Началась эпоха «портов, входящих в Договор», которой было суждено продлиться почти век.
Первый этап контактов с Западом – период с XVI века до Опиумной войны – был этапом разнообразных стадий существования христианских миссий в Китае.

До 1840 года вся внешняя торговля Китая велась через единственный порт, входящий в Договор, Кантон, где получившие государственную лицензию торговые монополии торговали с представителями такого же монополиста – Британской Ост-Индской компании. На английской картине XIX в. мы видим флаги нескольких торгующих стран, развевающиеся над прибрежным торговым складом
Христианские миссии в Китае переживали как периоды успехов, так и периоды неудач. В начале XVIII века поведение миссионеров-иезуитов, которые до тех пор были единственными католическими миссионерами в Китае, подверглось резкой критике со стороны только что прибывших в страну доминиканцев. Доминиканцы утверждали, что слишком терпимые иезуиты позволяли новообращенным христианам поклоняться дощечкам с именами предков и запускать петарды во время торжественных церемоний, например во время мессы, и тем самым способствовали сохранению языческих обрядов. Иезуиты же считали, что эти обряды носили исключительно местный национальный характер и не несли в себе религиозного содержания. Споры по поводу ритуалов тянулись многие годы; римским папам направлялись бесчисленные жалобы с обеих сторон. Маньчжурский император Канси, оскорбленный тем, что какой-то «вождь варваров», как он называл папу римского, осмеливается вмешиваться во внутренние дела Китая, отлучил всех христианских миссионеров от преподавания в школах, хотя он и пользовался знаниями и умениями наиболее образованных священников. Споры по поводу ритуалов подорвали дело христианства в Китае и также уничтожили интеллектуальные связи между Китаем и западной цивилизацией. Однако нельзя сказать, что христиане потеряли всех своих обращенных в Китае, на деле многие из них остались глубоко верующими христианами. Но число образованных христианских священников европейского происхождения в Китае резко сократилось, а те из них, которые остались в стране, больше не имели права устанавливать контакты со своими китайскими коллегами.
Христианских миссионеров, к которым раньше относились вполне терпимо, считая их носителями безвредной иностранной моды, теперь стали подозревать в том, что они служат всего лишь ширмой, прикрытием для осуществления чужеземными державами своих коварных планов. История XIX века усилила и в какой-то мере подтвердила эти подозрения. В то время как первые римско-католические миссионеры были прежде всего озабочены духовным миром китайского народа, большинство миссионеров XIX века были весьма заинтересованы в развитии торговых отношений с Китаем, на что так рассчитывали их соплеменники. Возможно, это было, так сказать, побочным продуктом миссионерской деятельности в Индии и Индонезии, где мусульманство и индуизм просто испугали многих миссионеров. В 1807 году в Китай приехал протестант из Шотландии, некто Роберт Моррисон. Он с большими трудностями начал тайно проповедовать евангелие. Несколько лет спустя, согласно положениям Нанкинского договора, миссионерам всех христианских церквей теоретически был разрешен свободный въезд в страну. Им было также разрешено приобретать там собственность и беспрепятственно осуществлять свою деятельность. Однако на практике они столкнулись с враждебностью и пассивным неприятием своей деятельности. На них по-прежнему лежала печать отверженных, ведь они завоевали свое право работать в Китае благодаря военному могуществу своих государств.
Читать дальше