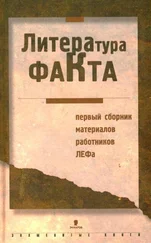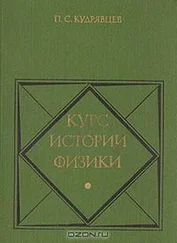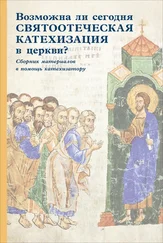В 1728 году абхазцы вновь тщетно осаждали Сухум-кальскую крепость.
В хронологическом перечне на переплёте кондака (требника), принадлежащего Карабеловым, к 1769 году относится коротенькая запись:
В хоронологическом перечне на переплёте кондака (требника), принадлежащего Карабеловым, к 1769 году относится коротенькая запись:
«В Рухве (Рухе) была битва с абхазцами».
В виду того, что, если по записям этого требника можно с большой достоверностью предположить его имеретинское происхождение, то можно предполагать, что эта битва в Рухве была с имеретинами.
В середине XVIII века Турция наводняет Абхазию муллами, дервишами (мусульманские монахи), кадиями (судьями) и другими фанатически религиозными элементами и старается омусульманить край. Первыми начали принимать мусульманство господствующие сословия Абхазии – князья и дворяне.
В третьей четверти того же столетия владетельный князь Леван Шервашидзе со всем своим семейством принимает ислам. Фанатически религиозные круги Константинополя по этому поводу поднимают шум и настаивают перед султаном Абдул-Гамидом I (1764–1789), чтобы он отметил этот поступок Левана. Слабохарактерный Абдул-Гамид, чтобы показать свою милость и внимание к Левану, за его переход в мусульманство, передал город и крепость Сухум-Кале князьям во владение на вечные времена.
Передачу Сухум-Кале Абхазии нужно отнести к началу царствования Абдул-Гамида.
В это время абхазцы славились своими набегами и морским разбоем даже в такие страны, какими являлись Кавказ и Малая Азия в XVII и XVIII веках. Топот коней лихих абхазских джигитов приводит в страх и трепет жителей всех соседних стран, а их мелкие суда иногда бороздили и волны Босфора, и смелость их набегов знало все Черноморское побережье.
Они нападают не разбирая и на горские, и на грузинские, и на турецкие области. Главной целью их набегов было, как можно больше захватить «человеческой» добычи – пленников: женщинами заполнялись турецкие гаремы, а мужчины отправлялись на невольничьи рынки. Последствием и лучшим показателем обилия «человеческого товара» служит то, что в конце XVI и весь XVIII век Сухум-Кале славится, как один из самых крупных центров на Востоке и, в частности, на Чёрном море, по торговле женщинами для гаремов и рабами.
Об этой торговле рабами очень подробно говорит иерусалимский патриарх Досифей в своём послании (сентября 1701 года) «блаженнейшему и благочестивейшему Католикосу Имеретии, Онтиссии (Одишии, т. е. Мингрелии), Соании (Свании или Сванетии), Абхазии и всей нижней Иверии Kуp Григорию». Досифей советует и полупросит, и полуприказывает созвать собор и соборно запретить продажу христиан в мусульманские страны. Тех же лиц, которые будут противиться соборному определению и письму иерусалимского патриарха, после «увещеваний благими и кроткими словами», он советует предавать анафеме.
Далее, как интересную характеристику быта того времени, мы приводим слова Досифея без изменения, – он пишет: «Ещё, если продававшие христиан суть игумены, или другие священники, и, если они раскаются искренне, то примите их покаяние и простите. Если же найдутся игумены или священники не раскаявшиеся, – таковых не только отлучите и подвергните анафеме, но и лишите священства».
Конец XVIII и начало XIX века – время борьбы в Абхазии русского и турецкого влияния.
Уже Леван, несмотря на переход в магометанство и получение во владение Сухум-Кале, начинает переговоры с Россией.
В своём докладе от 1770 года граф Тотлебен доносит, что владетель абхазский Леван ходатайствует о принятии его под покровитёльство Российской империи. Тотлебен сообщает, что в ведении и владении Левана находятся крепости Рух, Аку[******] Бедиачук (Бедиа). Тотлебен согласился на предложение Левана и между ними начались переговоры об условиях, приемлемых для обеих сторон. Но «подданные Леванна», узнав о переговорах, угнали табун лошадей гусарского Кабардинского полка, и переговоры с русской стороны (Тотлебеном) были прерваны.
Сохранилось много донесений, относящихся к этому времени, разных русских чиновников и военнослужащих. Эти донесения определенно говорят о том, что Абхазией, как страной, попавшейся на дороге русского империализма, русская власть интересуется.
Для примера приведём донесения капитана (потом капитан-поручика) Языкова от 1770 и 1771 годов, в которых он сообщает о крепости Аку, её начальнике, жителях, гарнизоне.
Читать дальше