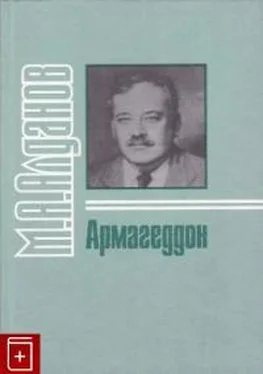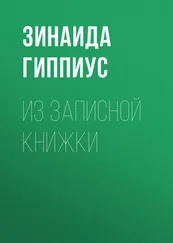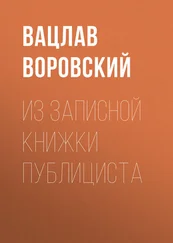Революционеры времен Пушкина, за редкими исключениями, его совершенно не понимали. Достаточно вспомнить, с какой ненавистью и презрением отзывается о нем в своих мемуарах декабрист Горбачевский. Пушкин, напротив, понимал и ценил декабристов. Но сколько бы объективной правды ни было в его оценке «бунта», правы были все же декабристы — и объективно, и субъективно.
Замышлять бессмысленное нельзя. Революция, которую замышляют, невозможна . К тем, кто хочет подчинить ее логическому руководству, она беспощадна . Переворот должен обратиться в бунт . Мысль Пушкина в своей сжатости гениальна.
Однако в числе деятелей русского революционного движения были люди и не молодые, и не жестокосердные; были даже (хоть в очень небольшом числе) люди, знающие наш народ. Но другого пути перед ними не было. Они шли за колесницей Джагернатха или бросались под ее колеса.
Тургенев писал Герцену:
«Враг мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом и в нем ты видишь великую благодать, и новизну, и оригинальность будущих общественных форм, das Absolute... Бог ваш любит до обожания то, что вы ненавидите, и ненавидит то, что вы любите, Бог принимает именно то, что вы за него отвергаете...» «Из всех европейских народов именно русский меньше всех других нуждается в свободе. Русский человек, самому себе предоставленный, неминуемо вырастает в старообрядца: вот куда его гнет и прет, а вы сами лично достаточно обожглись на этом вопросе, чтобы не знать, какая там глушь, и темь, и тирания. Что же делать? Я отвечаю, как Скриб: «Prenez mon ours» — «возьмите науку».
Тургенев, вообще говоря, мало предсказывал и неохотно проповедовал, но почти всегда хорошо, потому что и предсказывал, и проповедовал он самые элементарные вещи, вроде ученье — свет, а неученье — тьма. Может быть, именно поэтому он у нас в России почитался оригиналом и европейцем. Однако в данном случае плохо помогло ему знание народа, которым он бесспорно превосходил Герцена. Надо было ответить и на вопрос, во что вырастет русский человек, «предоставленный» не самому себе, а опекунам, еще менее «нуждающимся в свободе» и столь же мало заботящимся о «науке». На этот вопрос взялась ответить жизнь.
Вдохновитель двух поколений русских патриотических публицистов К. Н. Леонтьев писал: «В 1871 г., пока шли переговоры о мире между Бисмарком и Тьером, я боялся до крайности, чтобы французы не сохранили бы как-нибудь целость своей территории. Но мечта сбылась, и я перекрестился».
Положительно, никакая дружба между государствами Европы не продержалась бы дня, если б мы время от времени перечитывали старые передовые статьи руководящих политических публицистов. К счастью, мы этого никогда не делаем.
Тот же Леонтьев, в свое время кое-кем произведенный чуть ли не в пророки, предсказывал, что в случае европейской войны за побитые горшки заплатят, в качестве слабейших членов обеих коалиций, Австрия и Франция. Интересное совпадение: то же самое, почти в то же время, почти в тех же выражениях, предсказывал на другом полюсе политической мысли Фр. Энгельс. Этот последний писал Зорге: «Если бы дошло до войны, то можно с полной уверенностью сказать, что после нескольких битв Россия сойдется с Пруссией насчет Австрии и Франции, — каждая пожертвует союзником».
К. Н. Леонтьев с будущей европейской войной связывал так много радостных надежд, что нимало не огорчался неудачным для России исходом Берлинского конгресса: «Тогда (в 1871 г.), — писал он, — мы вошли бы в Царьград этот во французском кепи с общеевропейской эгалитарностью в сердце и уме; а теперь мы вступим в него именно в той шапке-мурмолке, над которой так глупо смеялись наши западники; в сердце же и уме с кровавой памятью об ужасном дне 1 марта».
Во всем этом вздоре о грядущей шапке-мурмолке и о французском кепи на голове Николая Николаевича Старшего любопытно лишь то, что он не только принимался всерьез, но, вдохновляя русских государственных людей, имел практические последствия в истории.
Тютчев тоже «предсказывал» (в апреле 1848 г.): «Давно уже в Европе существуют только две действительные силы — Революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой! От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества».
Читать дальше