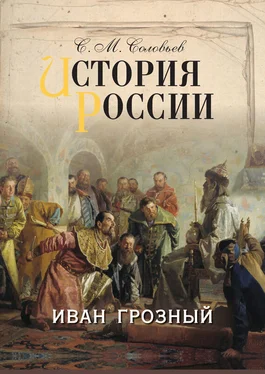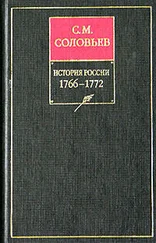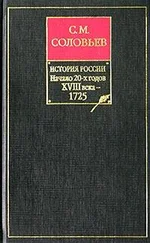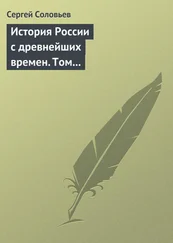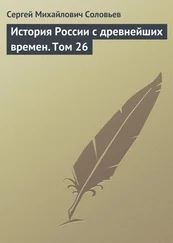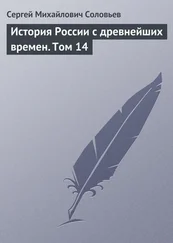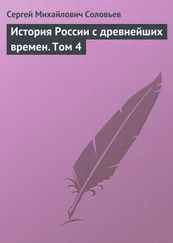Мы видели, вследствие чего Иоанн дошел до раннего сознания борьбы, которую он должен был вести, до сознания начал, которые он должен был защищать от начал противоположных. Последним во время его малолетства дана была возможность вполне обнаружиться, и это обнаружение вызвало противодействие, усиленное еще характером главного деятеля, образовавшимся также под влиянием борьбы. В борьбе этой обнаружились значение и средства той и другой стороны; она бросила яркий свет и на прежние отношения, на древнюю историю Руси. Чтоб уяснить себе характер отношений между нашими древними князьями, нам стоило только спросить у летописцев, как эти князья звали друг друга и как звали их подданные. Встречаем ли мы в древних летописях названия: князь киевский, черниговский, переяславский, туровский, полоцкий? Нет, мы этих названий не встречаем; встречаем одни собственные имена княжеские, которые приводят обыкновенно в такое затруднение людей, начинающих заниматься древнею русскою историею. Чего нет в древних памятниках, того не должны мы искать в древнем обществе: князья не титулуются по имени своих владений, следовательно, владения эти не имели для них первенствующего значения; видим, что они называют друг друга братьями, считаются, ведут споры о старшинстве по родовой лестнице; заключаем, что господствующие отношения между ними были родовые, а не по владениям. Обратимся к нашим боярам, к их именам: что встретим? «Данило Романович Юрьевича Захарьина, Иван Петрович Федоровича». Как у древних князей, так и у бояр нет следа отношения к земельной собственности, и одно явление объясняет другое: если князья не имели постоянных волостей, меняли их по родовым счетам, то и дружина их меняла также волости вместе с ними, не могла приобрести чрез землевладение самостоятельное земское значение, зависела от князя или от целого рода княжеского. Какой был главный интерес русского боярина, это выражается в его имени: к имени, полученному при рождении или при крещении, он прибавляет имя отца деда и прадеда и крепко стоит за то, чтоб роду не было унижения; отсюда понятно становится нам явление местничества – интерес родовой господствует. Когда князей было много, когда можно было переходить от одного из них к другому, выгодное положение дружинника обеспечивалось вполне этою возможностию; когда же эта возможность с установлением единовластия исчезла, дружинник должен был принять то положение, какое угодно было назначить для него единовластителю. В отношениях княжеских в Северной России произошла перемена; здесь родовая связь рушилась, волости обособились, и когда подчинились все Москве, то князья их явились сюда с волостными наименованиями. Но князья, отстранив от первых мест, заехав, по тогдашнему выражению, старинные роды боярские, не долго удерживают за собою первенствующее положение; кроме титула, скоро ничем более не отличаются от остальных членов служилого сословия. Все это объясняет нам, почему в малолетство Иоанна IV мы видим только борьбу известных отдельных родов за первенство, почему служилое сословие так долго и упорно держалось за обычай местничества: в глубине жизни народной коренилось начало родовое; изгонится оно из одной сферы – с большею силою и упругостию обнаружится в другой.
Древнее начало было сильно, вело упорную борьбу; но уже государству пошел седьмой век, оно объединилось, старое с новым начало сводить последние счеты; появилось много важных вопросов, важных требований. Вторая половина XVI века, царствование Иоанна IV, характеризуется преимущественно этим поднятием важных вопросов в государственной жизни. Так, опричнина, с одной стороны, была следствием враждебного отношения царя к своим старым боярам; но, с другой стороны, в этом учреждении высказался вопрос об отношении старых служилых родов, ревниво берегущих свою родовую честь и исключительность посредством местничества, к многочисленному служилому сословию. Мы видели, что сам Иоанн в завещании сыновьям смотрел на опричнину как на первый опыт. После мы увидим, как будет решаться этот важный вопрос об отношениях младшей дружины к старшей. Понятно, что должен был явиться и громко высказаться вопрос о необходимых переменах в управлении о недостаточности прежних средств, о злоупотреблениях, от них происходящих, являются попытки к решению вопроса – губные грамоты, новое положение дьяков относительно воевод. Понятно, что в то же время должен был возникнуть вопрос первой важности – вопрос о необходимости приобретения средств государственного благосостояния, которыми обладали другие европейские народы; и вот видим первую попытку относительно Ливонии. Век задавал важные вопросы, а во главе государства стоял человек, по характеру своему способный приступать немедленно к их решению. К сказанному прежде об этом характере, о его образовании и постепенном развитии нам не нужно было бы прибавлять ничего более, если б в нашей исторической литературе не высказывались о нем мнения, совершенно противоположные. В то время как одни, преклоняясь пред его величием, старались оправдать Иоанна в тех поступках, которые назывались и должны называться своими очень нелестными именами, другие хотели отнять у него всякое участие в событиях, которые дают его царствованию беспрекословно важное значение. Эти два противоположных мнения проистекли из обычного стремления дать единство характерам исторических лиц; ум человеческий не любит живого многообразия, ибо трудно ему при этом многообразии уловить единство, да и сердце человеческое не любит находить недостатков в предмете любимом, достоинств в предмете, возбудившем отвращение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу