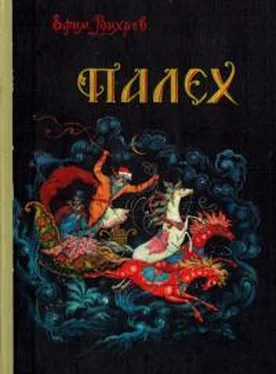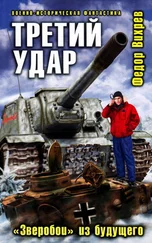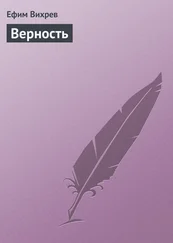Был такой случай: он целый месяц красовался на черной доске как срывщик промфинплана. Конечно, это была большая ошибка артели: если б Иван Голиков больше и ничего не сделал в своей жизни, он уже сделал достаточно для того, чтобы быть спокойным за будущее.
Палех, 8 июня 1932 года.
Голиков таскает под мышкой рукопись «Слова о полку Игореве» с комментариями. Голиков ходит по утрам в артель и из артели с удрученным видом, как будто ища чего-то на земле. Он «прорабатывает» древнюю песнь, он никак еще не может приступить к «екскизам». Аванс, полученный от издательства, благополучно израсходован, корова куплена у тереховского мужика, деньги за корову уплачены.
Он достает в артели пластинки из папье-маше, но и они долгие дни лежат у него без толку.
— И черт их знает, пластинки коробятся!
Так он ходит день, другой, третий. Пластинки коробятся. Пластинки возмущают Ивана Голикова. Но, может быть, дело совсем не в пластинках...
Сегодня мне почему-то вспомнились строки Верхарна о Микеланджело:
Чем больше ставил он препятствий самому себе,
Чтоб задержать миг молнии и чуда,
Внезапно преображающий работу,
Тем полнее зрело в душе
Творенье пламенеющее...
Палех, 19 июня 1932 года.
Художнику неведом отдых. Я понял это сегодня на массовом колхозном гуляньи. Там был и Голиков. Последние дни, готовясь к работе над «Словом о полку Игореве», он ходит возбужденный и раздражительный. В лесу, в Заводах, сегодня все были веселы и беззаботны. Чествовали ударников, кому-то преподнесли рогожное знамя, много было песен, шуток, игр. Голиков же только на минуту появился вдруг на лужавине, где были все, ведя за руки двух своих сыновей, и сразу же исчез. Мне запомнились большие его глаза — вопрошающие, ищущие, творческие.
Казалось, он был рассержен. Я посмотрел на него, и снова мне вспомнился Верхарн, поэма о Микеланджело в последние дни не выходит у меня из головы:
...И нервы продолжали гореть во время отдыха.
В сумерки я застал его дома — он лежал на полу. Это о нем написано у Верхарна:
Он с вечера ложился на спину на ложе,
И нервы продолжали гореть во время отдыха.
Он весь звенел, дрожащий, как стрела,
Вонзившаяся в стену.
Палех, 22 июня 1932 года.
Один из моих палехских друзей сказал мне сегодня:
— Есть произведения искусства, которые нельзя оценивать деньгами. Вот Голиков написал нашему учителю портсигар — «Охотник». Композиция ничего особенного не представляет, а какая драгоценность! Залюбуешься! Вот это искусство! И оно дороже всяких денег. Голикову нужно бы погулять, ему бы нужно полодырничать, — вот тогда бы он создал... Я всегда удивлялся, как он работает: утром придешь — сидит, вечером — сидит, глубокой ночью придешь к нему — сидит... Теперь уж он так не может работать.
Палех, 25 июня 1932 года.
Наконец-то он приступил к работе. Сегодня он показал мне первые карандашные наброски. Пластинки магически перестали коробиться. Пластинки больше не возмущают его: но почему же он грустен?
Как жаль, что мне нужно ехать и я не дождусь окончания его работы над «Словом».
III
Шуя, 15 июля 1932 года.
Сегодня я приехал из Палеха. Запомнится последняя палехская минута: я усаживаюсь в телеге; по зеленому прогону из-за сарая выбегает Голиков, держа в руке тетради. Он сует мне тетради в руку:
— Вот, видите, я не подвел вас, хоша мне и не до этого было...
Как вы говорили: шпарил по конспекту... Значит, дело сделано. Теперь уж я над «Игорем» сижу, теперь он от меня не уйдет.
Мы распрощались с ним. Я положил в карман его тетради и все шесть часов пути думал об этом странном, об этом большом человеке... «О чем же он рассказывает в своих записках?» — думал я. Но дорога была тряская, тетради были написаны карандашом, очень мелким, угловатым почерком, к тому же в них не было ни одного знака препинания, и я не смог прочесть связно ни одной фразы. А сейчас уже поздно, и нет света.
Шуя, 16 июля 1932 года.
Сегодня я отдал рукопись Голикова машинистке, сказал ей, чтобы она переписала все в точности, не изменяя ни одного слова и не исправляя ошибок. Вот она и переписала и возвратила мне со словами:
— Тут столько ерунды, что не знаю, кому это может быть интересно.
Сейчас я прочитал записки Голикова дважды: это именно то, что мне нужно.
Шуя, 17 июля 1932 года.
Весь день нахожусь под впечатлением голиковских записок. Катался на лодке, гулял по городу, не расставаясь с рукописью. Мне понятно каждое слово, каждый намек. Вечером выписал отдельные места.
Читать дальше