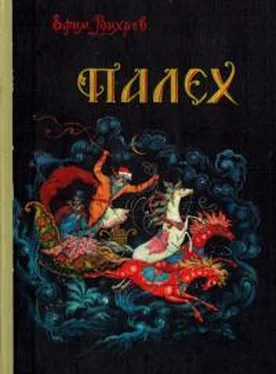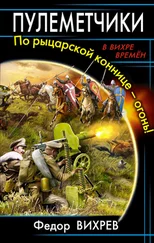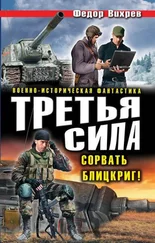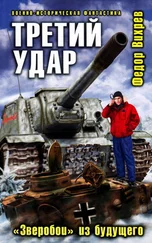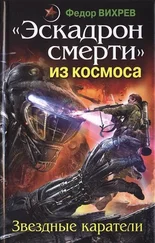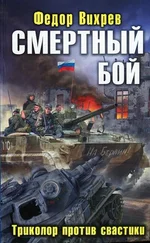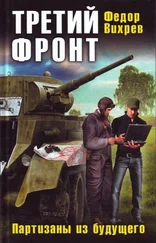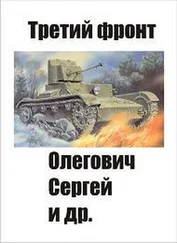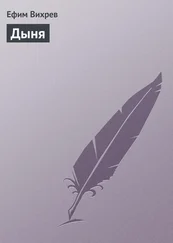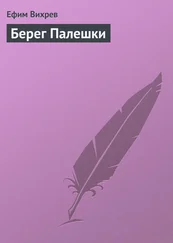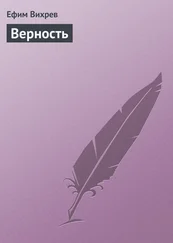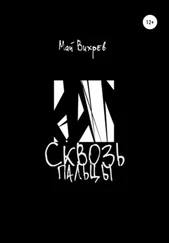Естественным переходом от сказок был переход к «Песням западных славян», к «Воеводе» Мицкевича, к сценам из «Русалки». Здесь Буторину принадлежит несколько вариаций к стихотворению «Будрыс и его сыновья». Алексею Ватагину — «Воевода», Ивану Зубкову и Дмитрию Буторину — сцены из «Русалки».
После этого палешане стали изучать пушкинские поэмы.
Иван Баканов создал совершенный по композиции «Бахчисарайский фонтан». Иван Голиков, по заказу Большого театра, написал десять сцен из «Бориса Годунова». Последние заслуживают специального исследования. Трагедию «Борис Годунов» затрагивали и другие художники Палеха: Иван Зубков и Александр Баканов (племянник и ученик Ивана Баканова).
«Цыгане» нашли отражение в трех картинах трех мастеров — Буторина, Ивана Вакурова, Зубкова.
И затем: Иван Зубков написал сцену из «Графа Нулина» и из «Полтавы».
Разработка пушкинских поэм в настоящее время в самом разгаре, и палешане обещают еще очень много дать в этой области. Они уже раскрыли по-своему «Евгения Онегина» (Иван Зубков — «Встреча Онегина с Татьяной», Дмитрий Буторин — «Дуэль Онегина с Ленским», Аристарх Дыдыкин — «Сон Татьяны»).
Наконец, и лирика Пушкина не прошла мимо внимания палешан.
Иван Маркичев — художник женственных образов — был очарован пушкинской «Бурей» («Ты видел деву на скале») и создал прекрасную композицию на эту тему. Иван Голиков множество раз повторял теперь уже славных своих «Бесов», которые так отвечают характеру его творчества.
И все же здесь перечислено не более половины того, что сделано палешанами в области пушкинской тематики. Все это ждет своего исследователя, все это ждет популяризации в широких читательских массах.
Я читаю Пушкина. Я раскладываю фотографии с палехских рисунков. И всякий раз мне приходят на ум пушкинские слова: «Мы ленивы и нелюбопытны». В самом деле, знают ли наши пушкинисты, что Палех лучше всех художников за сто лет понял Пушкина и воплотил его поэзию в линиях и красках?
И еще я думаю о том, что придет время, когда мы будем держать в руках собрание сочинений Пушкина с иллюстрациями палешан.
МАКСИМ ГОРЬКИЙ И ПАЛЕХ [23] Настоящий очерк отредактирован лично А. М. Горьким.
Искусство Палеха вполне достойно более широкой и грамотной оценки, чем та, которой оно пользуется у нас, достойно и более высокой оценки материальной.
М. Горький.
(Из неопубликованного письма)
Прошло полвека с тех пор, как никому не известный подросток Алеша Пешков жил «в людях». Тогда, полвека назад, жизнь столкнула его с иконописцами. В иконописной мастерской, куда он поступил учеником, работали и «богомазы» села Палеха: Виктор Салаутин, Павел Одинцов, Ситанов; первые два — коренные палешане, третий — уроженец деревни Потанино, что под Палехом.
Алеша Пешков не учился писать иконы, он только растирал краски. Но работа в иконописной мастерской, как и другие его работы «в людях», была одним из его университетов: все было нужно для главного, ничто не пропало даром. В жизни художника нет таких мелочей, которые не стоили бы его внимания. И Алеша Пешков — будущий Максим Горький — запоминал все, чем богата была жизнь тогдашних «богомазов».
А богата она была скукой, пьянством, безнадежностью и чахоткой. Лишь изредка жизнь дарила «богомазам» минуты светлой радости и непринужденного веселья.
Таким радостным событием в их жизни был тот вечер, когда Алеша Пешков прочитал им «Демона» Лермонтова. Иконописцам открылся новый, дотоле неведомый им мир, они твердили отдельные стихи поэмы, переписывали поэму в свои тетради, они философствовали о жизни и смерти, о рае и аде, о боге и дьяволе.
В мастерской лучшим живописцем-личником был Жихарев. Он нередко говаривал:
— Связали нас подлиннички эти... Надо сказать прямо: связали!.. [24] См. повесть М. Горького «В людях».
В душе он был настоящим художником. Он писал свои иконы так, что ему было жалко расставаться с ними («жалость эта не всем доступна»), и по окончании работы напивался. Так вот этот самый Жихарев, услышав чтение «Демона» Пешковым, сказал слова, которые мог сказать только художник:
— Деймона я могу даже написать: телом черен и мохнат, крылья огненно-красные — суриком, а личико, ручки, ножки — досиня белые, примерно, как снег в месячную ночь.
Но Жихарев тогда не мог написать «Деймона», ибо искусство его принадлежало не ему, а церкви, — он не был волен в выборе тем и композиций. Связанный «подлинничками», он мог лишь мечтать о «Деймоне». К тому же его мастерство было ограничено писанием только «ликов» — лиц и ручек, то есть очень небольшой, хотя и самой важной частью производственного процесса. В повести «В людях» Максим Горький так изображает этот процесс делания иконы:
Читать дальше