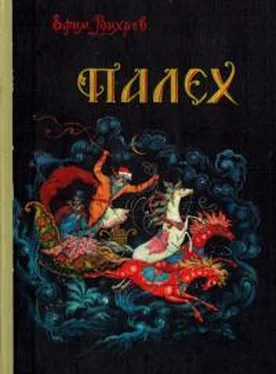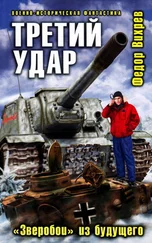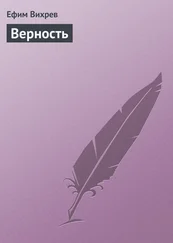Однажды, еще до возвращения отца из солдат, пришлось мне потерпеть незаслуженное наказание.
Жили мы на квартире у бабки Ксении, домик которой стоял на самом краю деревни. Бабка Ксения разводила в своем большом огороде малину и смородину. По праздничным дням у околицы собирались парни и девки, играли на гармошке, пели и плясали. В один такой праздничный, а для меня злосчастный день ни бабки Ксении, ни моей матушки не было дома. Гулявшие тут парни и девки забрались в огород и изволили оборвать все ягоды. Я же в это время со своими товарищами на речке ловил раков и пек их на теплине. Вот приходит хозяйка. Парни и говорят ей:
— Смотри-ка, — говорят, — Сашка Балда у тебя все ягоды общипал.
Поверив поклепу, возведенному на мою ни в чем не повинную голову, бабка Ксения тут же заявляет матери, что держать она нас на квартире больше не будет.
Матушка моя, не разобравшись в действительности, берет меня, как щенка, вволакивает на чердак и начинает пороть веревкой, чуть ли не канатом. Я долго верещал, молил о пощаде. Хотел доказать матушке фактически свою невиновность. Но деспотическая женская натура заглушала и материнское сердце.
Верещал я в продолжение часа, потом охрип и, наконец, совсем смолк, впавши, вероятно, в обморочное состояние. Может быть, матушка запорола бы меня до смерти, если бы не спасла меня одна женка, жившая на другом порядке. Услышав мой неистовый визг, женка не стерпела и пошла мне на выручку. Прибежала к чердаку и нашла его запертым. Неимоверным напряжением силы спасительница моя сорвала крючок, вбежала и оттолкнула мать, которая, в свою очередь, уставши меня пороть, не устояла на ногах и повалилась. Спасительница подхватила меня на руки и унесла к себе в дом.
Часа через два я очнулся, ощутив боль во всем моем детском теле. Оно было исполосовано рубцами с кровоподтеками. Целых два месяца я мог спать на одном боку, насколько сохранил я свою детскую память.
Спустя год одна девка сказала моей матушке, что прошлое лето я был побит напрасно. Матушка, конечно, много сожалела о невинном моем страдании, но уже, снявши голову, по волосам не плачут.
Случай этот я вспоминаю потому, что в последующем течении жизни моей не раз приходилось мне быть несчастным козлом отпущения, но уж такова, видно, моя судьба.
ПО ЛИЦЕВОМУ ДЕЛУ
На седьмом году отец стал меня обучать грамоте. Сам он выучился читать и писать на военной службе, и меня начал учить по-военному: бил за каждую запинку своей феноменальной дланью, чем хуже меня отуплял. За меня заступалась только бабка — отцова мать. Матушке моей не было возможности заступаться, так что за каждую защиту ей самой грозила пятерня отцовской руки.
Но меня все-таки вырвали из отцовских рук и отдали в своей же деревне на обучение крестьянской девушке, которая учила детей по-славянски: сначала азбуку, а потом псалтырь. В этой школе я оказался первым учеником и плюс к сему — не последним баловником. Весь университет я кончил в полгода. Пером обучиться не пришлось, так я и остался грамотей — читать по упокойникам.
Погуляв лето и осень, я был отдан в своей же деревне кустарю- иконнику писать лица — самую мелочь. (Нас, мелочников, называли тогда бруснижниками.)
Сначала мне нелегко давалось наше искусство. Помню, как, бывало, сработаешь свой образок-недомерок и несешь хозяину. Он возьмет дощечку за два нижних угла, посмотрит, посмотрит да как двинет ей:
— Где у тебя глаза-то, на заднице, что ли! Видишь, колоколенка-то косит.
Потом сотрет все написанное и велит писать заново.
С годами я наловчился и пристрелял свой глаз. Хозяин даже говорил отцу моему, что я далеко пойду по отрасли нашего искусства и что меня следует учить дальше.
На пятом году моего ученья хозяин помер, а сыновья его не захотели продолжать отцовское дело. Ввиду этого отец распорядился ехать немедленно мне с матерью в Москву, к ее родственникам, чтобы определить меня, как недоученного, в хорошую иконописную мастерскую.
И вот мы с матушкой приезжаем в виде субагентов в Москву. Здесь, в живой, шумной столице, на мою детскую натуру повеяло чем-то новым, невиданно-дивным. Все меня интересовало: от конки до керосинового фонаря, горевшего в ночное время на улице.
Через неделю я был устроен на Долгоруковскую улицу к нашему кустарю-хозяйчику. Мастерская была небольшая, но зато в ней работали по своей алкогольной слабости первые светила в Москве по лицевому делу.
Отправив маменьку обратно на родину, я ничуть не горевал, что остался одиноким. На Сухаревке я купил гражданскую азбуку, пропись и разные сказочные книги. Решил сам продолжать свое учение, благо меня взялся выучить живший вместе со мной ученик- москвич Алешка, прошедший сельскую школу. Через месяц я уже наваракал первое письмо моим родителям.
Читать дальше