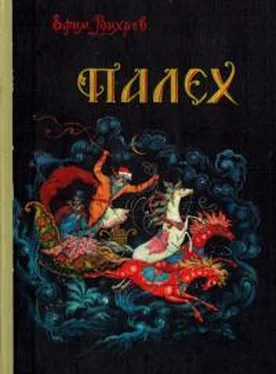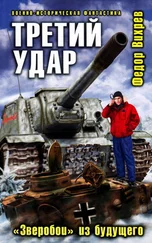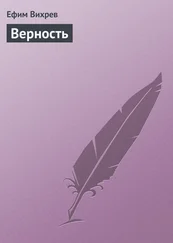Три сотни человек, рукоплеща, образуют узкий коридор — от
дверей до трибуны... Через минуту Ленин стоит уже на трибуне, но рукоплескания не дают ему говорить. Зато как тихо стало в зале, когда он произнес первые негромкие слова.
Так вот он какой — наш Ильич! Все знакомо в нем: и этот чуть картавый выговор, и обнаженный лоб, под куполом которого звездятся жизнеобильные глаза, и крапинки на галстуке, и черный костюм...
— Центральный Комитет партии, — говорит Ленин, — командирует всех вас в Девятую армию... Вы должны поднять боеспособность ее... Ивановские большевики всегда были в первых рядах революции, недаром среди них вырастают такие организаторы и герои, как Фрунзе-Михайлов...
И еще он много говорит о мировой буржуазии, о том, как должны коммунисты относиться к военспецам, о женщинах, которые так нужны армии, о молодежи. Когда он произносил слова «мировая буржуазия», он широко простирал обе руки, и тогда все триста человек видели, слышали и ощущали эту враждебную силу.
Вождь кончил свою напутственную речь, и триста человек, взволнованные, обступили его. Митинг перешел в дружескую беседу. Но Ильичу нужно ехать. Он говорит что-то Степану Ивановичу Назарову — старому ивановскому подпольщику. И Степан Иванович, будущий военком штаба Девятой Кубанской, обращается к своим товарищам. Владимир Ильич хочет все время следить за жизнью и работой ивановцев в армии, он хочет переписываться с ними. Пусть каждый из них пишет письма Степану Ивановичу, а тот будет их пересылать Ильичу, который обещает аккуратно отвечать.
Триста человек провожают Ильича до автомобиля. Ильич пожимает им на прощанье руки.
Ночью они отправились по безлюдным улицам спящей столицы и по дороге остановились у кремлевской стены, на том месте, где стоит сейчас Мавзолей.
Спев похоронный марш перед могилами павших борцов, они перешли Каменный мост и очутились у Павелецкого-Саратовского вокзала. Но они не знали, свидетелем каких картин будет этот вокзал через пять лет.
Потом они разместились по теплушкам, и на рассвете Отряд особого назначения покинул Москву. Вскоре в левой стороне можно было заметить узкую полоску леса, темнеющую на горизонте. Это Горки, парк... Но ни один из трех сотен человек не знал, какую скорбную повесть заключит в себе эта далекая рощица.
Поезд у Горок не остановился. Он остановился у Каширы. Три сотни человек наполняют свои жестяные чайники кипятком, пьют чай, беседуют о фронте и вспоминают напутственные слова вождя...
ЭПИЗОДЫ ДВАДЦАТОГО ГОДА
Колючая проволока оцепила штабные здания — терновый венец на челе эпохи. Колючая проволока впилась в фонарные лучи, зыблемые осенним кубанским нордостом.
У входа в штаб огонь трепещет, как обреченная бабочка, судорожно взмахивая лучевыми крыльями. Я пробираюсь пустынными улицами ночного города, шепча патрулям пароль. Я иду к плененной бабочке, и кажется мне, что вся планета опутана паутиной. Но будет время — мы вырвем ее из паучьих лап. Вот там, в лучах фонаря, изрезанных проволокой, — клуб коммунистов. Там сейчас собираются великие зачинатели и колумбы. Каждый из них — гений, каждый — творец и смелый философ...
Никто из нас не знает, зачем мы идем сюда. Нас разбудили внезапно. Нас подняли для какого-то важного дела. Эвакуация? Наступление? Раскрытый заговор? Не все ли равно? Мы идем. Мы идем к клубу коммунистов поодиночке, и неизвестность нас не томит: разбудили — значит нужно, значит — мы пришли. Нам ясна эта неизвестность, как лозунг, встречающий нас:
«Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, а приобретут они целый мир».
Да, нам нужен весь мир — меньшего мы не желаем.
Нынче собрание многолюдно и не по-обычному тихо. Нынче собрались все коммунисты города и штаба с его политотделом.
Собрание открывает наш краснощекий начпоарм Дмитрий Фурманов. Его спокойный, ясный взгляд сосредоточил в себе сотни наших взглядов.
Я смотрю на статного начпоарма и земляка. Он мой начальник. Он скажет — и я сделаю. Но пройдут годы, мы встретимся с ним в Москве, на литературных собраниях, и у каждого из нас будет своя художественная правда. Потом я буду провожать его до могилы — к золотоглавому Новодевичьему монастырю. Потом пройдут еще годы — я буду писать этот рассказ и вспоминать своего краснощекого начпоарма, своего земляка. Мне припомнятся его каштановые волосы, закинутые назад, и защитная его гимнастерка.
Читать дальше