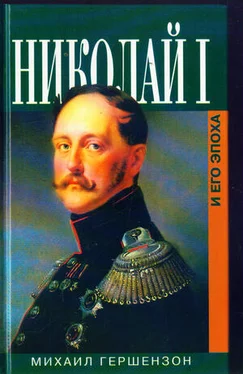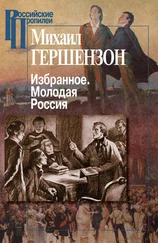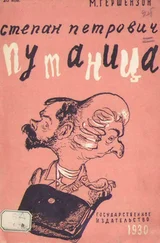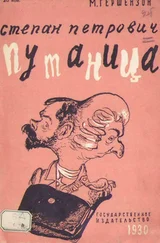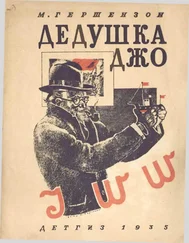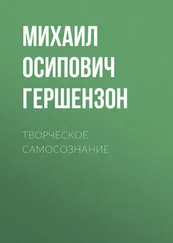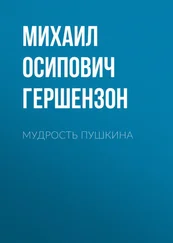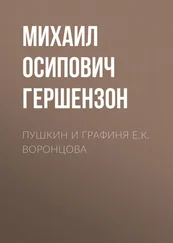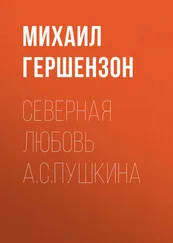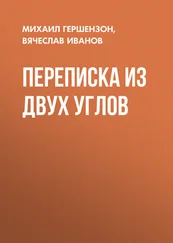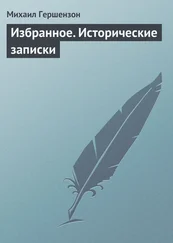«Вот они, поляки, все один как другой! Беликовича разжаловать в рядовые и сослать в отдаленный Оренбургский линейный батальон; Гагарина же определить юнкером в один из полков Московского корпуса, с тем чтобы отец его сам наказал, а директору училища (то есть мне) объявить строжайший выговор с внесением в формуляр»
Плохо пришлось бы мне, если бы добрейший принц Ольденбургский сам лично, через Орлова, не упросил императора Николая не вносить выговор мне в формуляр. Кн. Гагарина участь была смягчена потому, что мать его, рожденная Сабурова, была другом и приятельницей принцессы Ольденбургской, и Гагарин, прослужив несколько времени юнкером, был произведен в офицеры на Кавказе, где служил долго, позже был адъютантом военного министра и умер в чине генерал-майора. Что касается до Беликовича, то он, прослужив солдатом, кончил жизнь на приступе одного пограничного азиатского укрепления.
Необходимо, однако, хотя теперь более сорока лет спустя после сего происшествия, раскрыть всю подкладку этого события, завершившегося столь суровым судом. Беликович, 15-ти лет, уроженец Витебской губернии, католик, был прекрасный, умный мальчик, один из первых в классе по учению, но с горячей, пылкой головой, к сожалению восторженной польскими идеями, и имел неосторожность вести откровенно свой дневник на польском языке и оставлять его в своей классной лавке, вместе с учебными тетрадями. А воспитатели этого 3-го класса не заботились осматривать тетради воспитанников, что было прямо обязанностью их, а не директора. Они (с некоторыми исключениями) оберегали более себя, чем воспитанников и директора, и служили плохими помощниками директору.
Князей Гагариных в первой половине 1848 года было два брата, из которых один, лентяй и возмутитель других, был уволен из младших классов училища, а другой остался, но также был не очень благонадежен, однако дотащился до 3-го класса. Политковский был нищий идиот, в презрении у товарищей, и ничего путного не обещал. Он-то и оказался самым пригодным орудием Дубельту, чтобы спасти себя и свою репутацию, вследствие открытия заговора Петрашевского не им, Дубельтом (le general Double, как его звали по-французски), а Перовским через Синицына. Говорили, что император Николай, утром после открытия заговора Петрашевского, встретил входившего в кабинет Орлова словами: «Хорош! Открыт заговор, а я узнал об этом не от тебя, а от Перовского! Узнай и доложи почему?» Орлов — к Дубельту, а этот, как казна, которая в огне не горит и в воде не тонет, недолго думая и не далеко ходя, закинул свою удочку поблизости — в училище правоведения, привлек идиота Политковского и выманил у него донос на товарищей его же класса, Беликовича и князя Гагарина, следствием чего и было все изложенное выше… Вновь повторяю, если б не добрейший принц Ольденбургский — хвала ему и честь, — директор училища правоведения, 23 года с честью носивший мундир Генерального штаба, навсегда стал бы жертвой ужасной случайности, в которой ни в чем не был повинен. Ведь еще у римлян, по их законам, не обвиняли подсудимого, не выслушав его оправдания, а в училище правоведения, в России, в 1849 году, никто и не потребовал объяснения директора.
Из воспоминаний кн. Н. С. Голицына (директора училища правоведения).
Русская Старина, 1890, ноябрь.
Глава IX
Общественное движение при Николае I
Казнь на Кронверкской куртине 13 июля 1826 года не могла разом остановить или изменить поток тогдашних идей, и, действительно, в первую половину николаевского тридцатилетия продолжалась, исчезая и входя внутрь, традиция Александровского времени и декабристов. Дети, захваченные в школах, осмеливались держать прямо свою голову, они не знали еще, что они арестанты воспитания.
Так они и вышли из школ.
Это уже далеко не те светлые, самонадеянные, восторженные, раскрытые всему юноши, какими нам являются при выходе из лицея Пушкин и Пущин. В них уже нет ни гордой, непреклонной, подавляющей отваги Лунина, ни распущенного разгула Полежаева, ни даже светлой грусти Веневитинова. Но еще в них хранилась вера, унаследованная от отцов и старших братьев, вера в то, что «она взойдет — заря пленительного счастья», вера в западный либерализм, которому верили тогда все: Лафайет и Годефруа, Кавеньяк, Бёрне и Гейне. Испуганные и унылые, они чаяли выйти из ложного и несчастного положения. Это та последняя надежда, которую каждый из нас ощущал перед кончиной близкого человека. Одни доктринеры, красные и пестрые — все равно, легко принимают самые страшные выводы, потому что они их собственно принимают in effigie, на бумаге.
Читать дальше