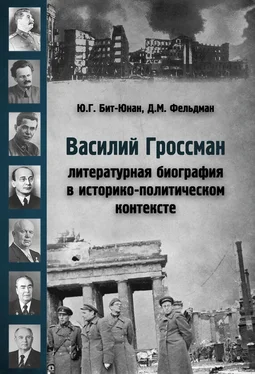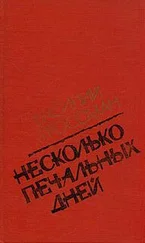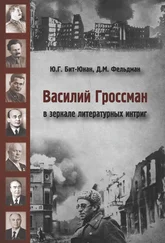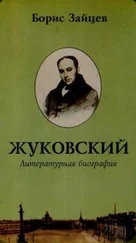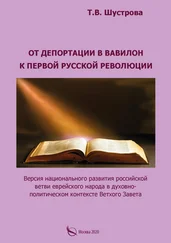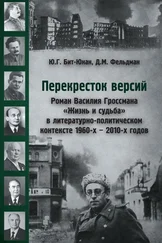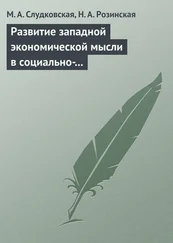Вполне прозрачным был намек – для современников. Бубенновские инвективы, а заодно и все им подобные, оказались противоречащими актуальному политическому контексту. Применительно же к положению Гроссмана это подтверждало уместность новой публикации романа «За правое дело». И в 1956 его выпустило издательство «Советский писатель» [7].
Гроссман уже давно был в литературной элите. Всесоюзно знаменитый писатель и журналист, классик советской литературы, что подразумевало высокие гонорарные ставки.
Отметим, что к началу 1950-х годов за авторский лист – сорок тысяч печатных знаков – платили в среднемтри тысячи рублей. Классикам советской литературы – высшая ставка, т. е. почти в полтора раза больше. Переиздания же приносили от пятидесяти до шестидесяти процентов начального гонорара.
Соответственно, ежегодные доходы некоторых литераторов порою превышали миллион рублей. Из-за чего в ЦК партии не раз обсуждался вопрос о необходимости введения прогрессивного налога. Однако до подобного рода ограничений не дошло – пропагандистская элита [8].
Гонорарные суммы уместно сравнить с доходами и расходами обычных советских граждан. Тут следует учесть, что средняя месячная заработная плата тогда – шестьсот пятьдесят рублей. Мужские ботинки стоили примерно триста рублей, зимнее женское пальто с меховым воротником обходилось в 700 рублей [9].
Гроссману каждое переиздание романа «За правое дело», объем которого превышал тридцать авторских листов, приносило не менее четырехсот тысяч рублей. Очередной выпуск «Степана Кольчугина» – почти в полтора раза больше.
Все публикации романа «За правое дело» по-прежнему лоббировало руководство ССП. Можно сказать, что Гроссману – по сумме гонораров за книжные издания – неоднократно компенсировали неполученную Сталинскую премию. Даже и первой степени.
Писательское начальство, санкционируя переиздания, демонстрировало всем: инцидент, обусловивший антигроссмановскую кампанию 1953 года, исчерпан. Окончательно.
Разумеется, причина благоволения не только и не столько в том, что литературные функционеры пытались загладить свою вину. Сталинский проект – «военная эпопея» – оставался политически актуальным и после нового раздела власти в партийной элите, а Гроссман был самым перспективным из прозаиков.
В этом аспекте характерно суждение И.П. Золотусского. Маститый критик постулировал в предисловии к очередному советскому изданию романа «Жизнь и судьба»: «Сразу после 1945 года заговорили о том, что нужна современная «Война и мир». Считалось, что масштаб события этого заслуживает. Но не о масштабе политическом шла речь. Имелась в виду идея охвата всей войны, ее корней и последствий, ее ядра и периферии» [10].
Золотусский не вполне точен, ведь ему лишь пятнадцать лет исполнилось в 1945 году. Еще двумя десятилетиями ранее литераторы обсуждали возможность создания эпопеи гражданской войны, что уже отмечалось. Да и «масштаб политический» – условие всегда обязательное в СССР. Однако в главном Золотусский прав. Сам проект «военной эпопеи» стал особенно актуальным со второй половины 1940-х годов. И десятилетие спустя не утратил актуальность.
Частично задачу создания «военной эпопеи» решил Гроссман. В каждом издании романа «За правое дело» указывалось, что публикуется лишь первая книга. Читательский успех ее был несомненным, причем не только в СССР. Планировалась и продолжение. Вот почему автора поощряли всеми доступными средствами. Заботились о его престиже, обеспечивали максимально комфортные условия работы. Точнее, выполнения того, что считалось тогда «социальным заказом».
Подчеркнем еще раз: опала Гроссмана длилась менее четырех месяцев. А затем он вновь «обласкан властью», обозначившей таким образом, что обиды следует забыть и служить по-прежнему верно.
Кстати, пафос хрущевского доклада – верность. Преступления же, совершавшиеся правящей элитой, предложено считать лишь последствиями «культа личности».
С учетом сказанного можно отметить, что XX съезд КПСС не повлиял на политические взгляды Гроссмана: в хрущевском перечне злодейств не было таких, о которых не знал бы или не догадывался.
В феврале 1956 года Хрущев официально подвел итоги сталинской эпохи. Закончилась же она гораздо раньше, и для Гроссмана ее окончание подразумевало, что можно не опасаться ареста в любой момент. Страх отступал. Тем яснее становилась мера пережитых унижений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу