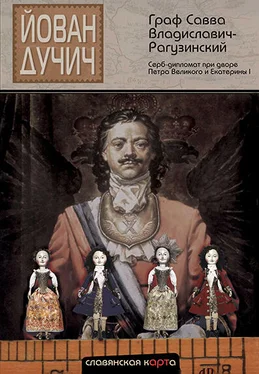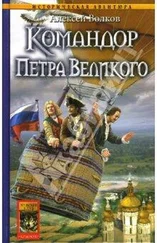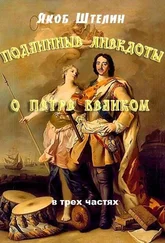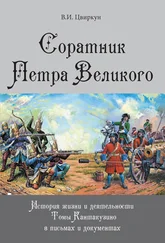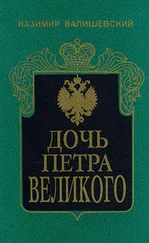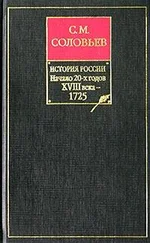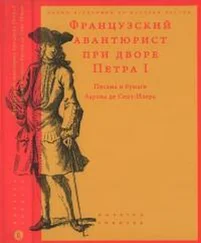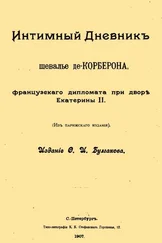Голубович и вправду нашел деньги, но скрыл это, ничего не отдав Саввиной сестре. Турки заметили, что Голубович стал жить намного лучше, и решили, что он нашел клад Владиславича. Тогда Мурад-бег Ченгич сдружился с ним, и однажды жена Голубовича проговорилась хануме Ченгича про найденный клад. Как только Мурад-бег услышал про это, тут же оседлал коня и потребовал от своего кмета Голубовича, чтобы тот наполнил ему торбу деньгами. Голубович сразу понял, чем это может закончиться, и насыпал ему полную торбу мелкой серебряной монеты. Позже Голубович на деньги Владиславича купил земли в Орахе, а потом и башню начал строить, такую же большую, как и башня Владиславича; однако так ее и не достроил, что видно по ее руинам. Все потомки Голубовича перемерли.
Про Савву Владиславича говорят, что сербскую школу он посещал в монастыре Добричеве в окрестностях Требинья. Это очень интересные сведения, потому что Кончаревич в своей «Летописи» пишет, что Савва учился и в Дубровнике («подружившись с верховными правителями»), вплоть до 1687 года.
Следует отметить, что это традиционное предание строится вокруг личности Саввы, потому что память о нем глубже всего врезалась в народное сознание. Говорят, что Савва переселил Владиславичей из Фочи в Ясеник; ему же приписывают строительство здесь башни, церкви, каменного гумна, мельницы на ручье, мостовой, колодца и т. и. Между тем ни единым словом не вспоминают ни его отца князя Луку, ни его братьев, сыновей Луки – Дуку, Иована, Тодора и прочих, что были старше его годами. Ведь у Дуки уже был сын Живко, обзаведшийся семьей к моменту нападения Ченгичей, как мы это видели в записках Слепчевича и как это следует из письма жены Дуки, находящегося в Архиве Дубровника и датированного 1712 годом. Мы видели, что Тодор, брат Саввы, в то время также был женат, у него родился сын Вук, или Вукоман. Таким образом, мы видим, что все имена детей князя Луки остаются в тени великого имени Саввы, о котором по всей Герцеговине говорят с гордостью и славой.
Есть путаница и в хронологии. Савва Владиславич не мог быть ни в Ясенике, ни в Герцеговине, когда произошло нападение Ченгича (а случилось это незадолго до восстания 1711 года), поскольку в то время Савва уже был в России известным и очень влиятельным русским дипломатом. Тем более что в 1711 году Савва Владиславич был министром при армии фельдмаршала графа Шереметева во время Прутского похода русской армии.
Письма, о которых в предании говорится, что он получал их из России с обещанием скорого освобождения Сербии от турок, также относятся ко времени восстания. Это были те письма, которые он сам отправил из России в нашу страну. Их распространили из Цетинье по всей Черногории, Герцеговине и Албании в виде копий прокламации Петра Великого, которую написал в Москве сам Владиславич, организатор этого первого сербского восстания, и которую Михаил М. Милорадович доставил в Цетинье.
Как мы видим, народные предания иногда ошибаются в именах и датах, но почти никогда не искажают факты. Поэтому досадные ошибки ничуть не умаляют их историческую ценность.
Аристократия Боснии и Герцеговины в массовом порядке переходила в ислам, чтобы сохранить свои имения и титулы. В. Чорович поименно перечисляет самые знаменитые боснийские семьи, принявшие ислам: Скендер-бег Михаилович, Ахмед-бег Вранешевич, Синан-паша Боронович, великий везирь Мехмед-паша Соколович, а также упоминает и Стевана, сына Херцега Степана, который, как и Ахмед Херцегович, был великим турецким полководцем во время войн в Азии и стал в итоге зятем Султана.
Однако историк В. Чубрилович делит наших боснийско-герцеговинских феодалов на три категории: первые – старые сербские дворяне; вторые – те, кто выслужился на военном или государственном поприще; наконец, третьи – дети турецких чиновников, пришедших сюда с армией и получивших земли и имения, отнятые у местного сербского населения. Чубрилович говорит и о четвертой, весьма многочисленной группе боснийских бегов: это беглецы турецкого происхождения из венгерских, хорватских и сербских земель, появлявшиеся здесь после того, как Турция в войнах теряла эти земли. Наконец, этот же автор говорит и об известных боснийских «капитанах» [29], которые в период с 1683 по 1699 годы храбро сражались против Австрии в пограничных крепостях. Многие из них стали пашами. Они воспользовались ослаблением Османской империи в XVIII и XIX веках и из бывших капитанов становились практически независимыми хозяевами своих областей, превращая окрестные деревни Боснии и Герцеговины в роскошные имения для себя и своих родственников. В Герцеговине по сей день считают, что после турецких набегов XVI и XVII веков большая часть герцеговинских дворян бежала в Черногорию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу