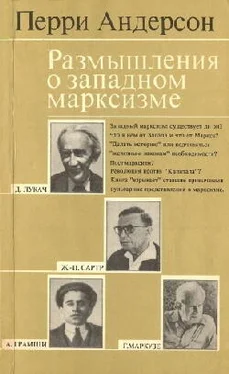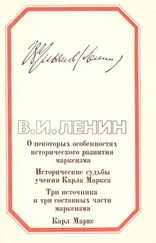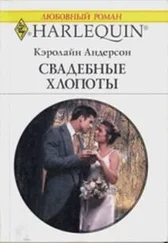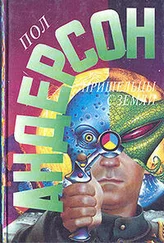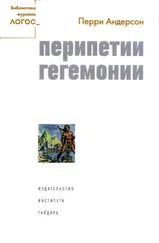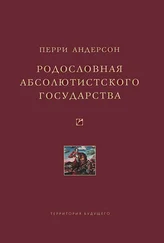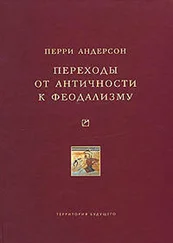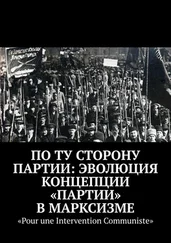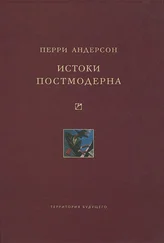Предпосылкой для ее решения, как мы уже говорили, стал рост массового революционного движения, свободного от организационных ограничений, в сердце индустриального капитализма. Только при этом условии станет возможным новое объединение социалистической теории и практики рабочего движения, способное вдохновить марксизм на обретение знания, которым он сегодня не обладает. В каких формах новая теория может возникнуть и кто будет ее носителями, предугадать трудно. Было бы ошибочным думать, что эти формы будут обязательно повторять классические модели прошлого. Практически все основные теоретики исторического материализма от Маркса и Энгельса до российских большевиков, от видных теоретиков австромарксизма до выдающихся мыслителей западного марксизма были интеллигентами, вышедшими из имущих классов чаще всего крупной, а не мелкой буржуазии [5-13]. Только Грамши родился в бедной семье, однако и его происхождение было далеко не пролетарским. Невозможно не видеть в такой закономерности свидетельство временной незрелости международного рабочего класса в целом с точки зрения всемирно-исторической перспективы. Достаточно вспомнить о последствиях для Октябрьской революции нестойкости большевистской старой гвардии, политического руководства, в большинстве своем интеллигентов по происхождению, вставшей над все еще малограмотным рабочим классом. Легкость, с которой и старая гвардия, и пролетарский авангард были уничтожены Сталиным в 20-х годах, в немалой степени объяснялась социальным разрывом между ними. Рабочее движение, способное к достижению окончательной самоэмансипации, не воспроизведет подобный дуализм. «Органическая интеллигенция», о которой говорил Грамши и которая вышла бы из рядов самого пролетариата, до сих пор не заняла той структурной позиции в революционном социализме, которая, как он считал, должна была бы ей принадлежать [5-14]. Крайние формы эзотермизма, характерные для западного марксизма, по терминологии Грамши, были присущи «традиционной интеллигенции» в период, когда связь между социалистической теорией и пролетарской практикой была слабой или вовсе прерывалась. В долгосрочном плане будущее марксистской теории будет принадлежать органической интеллигенции, рожденной самим промышленным рабочим классом империалистического мира по мере обретения им культурных навыков и уверенности в своих силах.
Последнее слово остается за Лениным. Его знаменитое высказывание о том, что «без революционной теории не может быть революционного движения», повторяют часто и вполне справедливо. Однако у него есть еще другие, не менее важные слова: «Правильная революционная теория... обретает свою конечную форму только в тесной связи с практической деятельностью подлинно массового и подлинно революционного движения» [5-15]. Все абсолютно верно! Революционную теорию можно разрабатывать в относительной изоляции — Маркс писал свои работы в Британском музее, а Ленин в окруженном войной Цюрихе. Однако свою правильную и конечную форму революционная теория приобретает только в том случае, если будет увязана с коллективной борьбой самого рабочего класса. Простое формальное членство в партийной организации (весьма характерное явление в недавней истории) совершенно не заменит такой контакт, ведь необходима тесная связь с практической деятельностью пролетариата. Боевитости небольших революционных групп также мало, так как должна быть связь с действующими, активными массами, и, наоборот, связи с массовым движением все же недостаточно, ввиду того что оно может быть реформистским: только в том случае, когда массы сами революционны, теория может выполнить свою благородную миссию. Совокупности этих пяти условий, необходимых для успешного продвижения марксизма после второй мировой войны, нигде на Западе не существовало. В наше время наконец усиливаются перспективы для их появления вновь. Когда по-настоящему революционное движение зародится в зрелом рабочем классе, «конечная форма» теории не будет иметь точного прецедента. Можно лишь сказать, что, когда говорят сами массы, теоретики (такие, каких Запад производил на свет 50 лет назад) обязательно молчат.
Утверждения, которыми заканчивается данная работа, требуют комментария. Первое, что следует сказать, это то, что им недостает обязательных оговорок и замечаний, без которых логику этих суждений нельзя назвать иначе, как редукционистской. Их апокалиптический тон сам по себе является тревожным показателем трудностей, которые я безапелляционно игнорировал или избегал. Адекватный анализ этих сложностей, не говоря уже о путях их разрешения, выходит за пределы данной книги. Самое большое, что можно сделать, так это указать на основные слабые моменты в построении вышеизложенного материала, которые мы постараемся изложить в сжатом виде. Через всю работу проходит мысль о том, что марксистская теория приобретает свои подлинные очертания только в прямой связи с массовым революционным движением. Если же этого движения не существует или оно потерпело поражение, то марксистская теория неминуемо деформируется или отходит на второй план. Посылкой этой основной темы является, конечно, принцип «единства теории и практики», который по традиции определяет марксистскую гносеологию как таковую.
Читать дальше