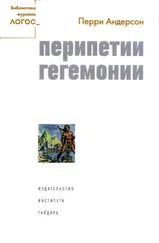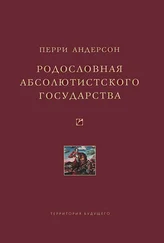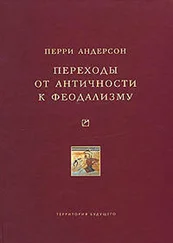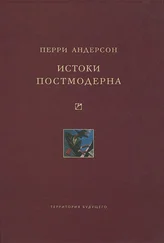Рассматриваемый термин вызывает и другие вопросы. Теория какой критики? С каких позиций и на каких принципах? Здесь речь идет о широком диапазоне возможных позиций, что показано в серии лекций. На практике разнообразие позиций в рамках литературной критики при всех трениях и коллизиях между ними всегда приводило к смешению литературных аспектов с социальными, о чем хорошо известно читателям работы Рене Уэллека «История литературной критики». Неизбежную связь между этими двумя аспектами часто подтверждали даже те, кто энергично отвергал само понятие «теории». В конце концов Левис провозгласил, что критика литературы является «критикой жизни». Такой невольный переход, явный или неявный, от литературных аспектов к социальным, как правило, необратим, в то время как перехода от социальных аспектов к литературным не происходит. Причины найти нетрудно. Ведь литературная критика, будь то «практическая» или «теоретическая», в безудержном оценочном порыве непроизвольно выступает за границы текста, отражая связанную с ним действительность. Парадоксально то, что социальная теория как таковая не обладает подобным внутренним зарядом. Пример теории социального взаимодействия, преобладавшей в североамериканской социологии в течение длительного времени, быстро приходит на ум. В то время как теория литературной критики прямо или косвенно предлагает некое представление об обществе, социальные теории, которые содержат хотя бы косвенные рассуждения о литературе, встречаются относительно редко. Трудно представить себе парсонианскую поэтику, но довольно легко заметить воздействие социологии или исторической нации на «новую критику».
Критическая теория, которую я собираюсь обсуждать, в этом отношении представляет собой исключение. Безусловно, марксизм целиком и полностью относится к категории систем идей, изучающих характер и направления развития общества в целом. Однако в отличие от большинства соперничающих с ним теорий, в нашем столетии в марксизме получили развитие концепции литературы. На то существует ряд причин, но одну из них, несомненно, следует искать в самой непримиримости критики основателей исторического материализма в отношении капиталистического строя, при котором они жили. Будучи с самого начала радикальным и острокритическим мировоззрением, марксизм быстро, так сказать, по внутреннему импульсу, распространялся на область литературной критики. Переписка Маркса с Лассалем показывает, насколько естественно было с самого начала это продвижение. Речь идет не о том, что социальные и литературные концепции в рамках марксизма, как тогда, так и позднее, легко согласовывались между собой. Напротив, история их отношений была сложной, напряженной и неровной, они перемежались многочисленными разрывами, смещениями и заходили в тупик. Если полного разрыва никогда и не происходило приблизительно со времен Меринга, то, несомненно, благодаря тому факту, что помимо критики, как общей отправной точки, история служила общей линией их горизонта. И не случайно, что в основе современной критической теории лежат две основные концепции: с одной стороны, общей теории литературы, с другой — конкретной системы идей об обществе, идущей от Маркса. Употребляемый во втором значении термин «критическая теория» пишут с прописной буквы, возводя ее в ранг общей теории. Такой переход в основном был совершен Франкфуртской школой в 30-х годах. Хоркхаймер, кодифицировавший это значение в 1937 г., намеревался тем самым заточить острие философского материализма Маркса, которое, как видело его поколение, наследие II Интернационала притупило. В политическом плане Хоркхаймер заявил, что «единственная забота» критического теоретика — «ускорить развитие, которое должно привести к обществу без эксплуатации» [1-1] [1-1] Horkheimer М. Traditionelle und kritische Theorie. — Zeitschrift fur Sozialforschung. — 1937. — Vol. 2. — P. 274. Далее он отметил, что такой теоретик может «обнаружить, что его взгляды противоречат взглядам эксплуатируемых». Действительно, «без возможности такого конфликта не возникло бы необходимости в теории, которой они требовали, поскольку она складывалась бы сама собой».
. Однако в интеллектуальном плане он попытался — судя по тому, что позднее сказал Адорно, — «заставить людей осознать теоретически, чем отличается материализм» [1-2] [1-2] Adorno Т. Negative Dialectics. — L., 1973. — P. 197.
. Основные усилия Франкфуртская школа в течение многих лет прилагала для движения именно в этом направлении. На протяжении длительного времени она с критических позиций страстно разъясняла заветы и противоречия классической философии и ее преемников, что с годами все больше подводило ее к области литературы и искусства, как в работах Адорно или Маркузе. Венцом научной карьеры каждого из них стали научные труды по эстетике. Все же определять марксизм как критическую теорию просто с точки зрения бесклассового общества, как цели, или материалистической философии, как сознательно применяемой методологии, очевидно, недостаточно. Истинное определение понятия «марксизм» заключается в ином.
Читать дальше