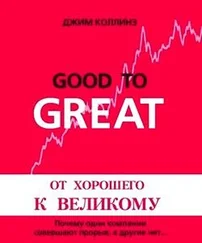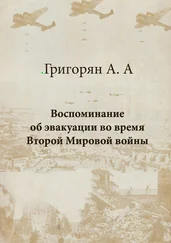На следующий день, а это было 11 ноября 1918 года, удается наладить телефонную связь со штабом Вильгельма во Вьельсальме. Оттуда опять можно говорить с Берлином. Но нет никаких новостей по вопросу, который волнует его больше всего: останется ли он при новом режиме командующим своей группы войск? Он подозревает, что молчание Берлина означает «нет». Ранний осенний вечер спускается на местность. Вильгельм стоит в сумерках у окна охотничьего замка, где располагается штаб, и смотрит на голые деревья и на снег с дождем, падающий с неба. За окном по улице шагает рота. Солдаты поют: «Ох, на родину тянется душа…» До этого момента кронпринцу удавалось сохранять самообладание, но теперь, в одиночестве, в темноте, слезы так и хлынули у него из глаз.
Поздно вечером появляется известие, что новое правительство действительно отстранило кронпринца от командования. Проходит еще одна бессонная ночь, и внутренний бунт уступает место покорности: Вильгельм хочет, чтобы все осталось позади, хочет избежать кровопролития и обрести покой. На двух автомобилях, вместе с узким кругом верных людей, он выезжает в сторону голландской границы. Последнее письмо к своим солдатам кронпринц подписывает еще как «Верховный главнокомандующий Вильгельм, кронпринц Германский и Прусский». Но, в конце концов, это только «слова» и «идеи». Его сопровождающий вручает ему шапку пехотинца, чтобы его не так легко было узнать. Но Вильгельм хочет оставаться в высокой черной гусарской шапке с изображением черепа — последний раз побыть прусским офицером. По плохим дорогам они добираются до места за линией фронта, где армия находится уже в состоянии развала. Возле Вренховена они останавливаются перед колючей проволокой. Чтобы сделать несколько шагов через границу, Вильгельму приходится собрать в комок всю свою волю. Молодой голландский офицер на той стороне в полном недоумении: что делать с этим внезапным высоким гостем? Кронпринцу приходится сдать оружие, и только через несколько часов он добивается разрешения ехать дальше, до Маастрихта. По дороге ему достаются враждебные взгляды и ругательства. Голландское правительство не считает себя обязанным предоставлять ему убежище в Нидерландах.
Жорж Грос — родившийся под именем Георг Гросс, но, чтобы отмежеваться от находящейся в милитаристском угаре немецкой родины, в 1916 году взявший себе художественный псевдоним Жорж Грос — проводит ноябрь 1918 года в состоянии переезда. В начале месяца он еще живет в своем ателье в мансарде доходного дома в Берлинер-Зюдэнде, на юге. Здесь, вплоть до самого переезда на Нассауэр-штрассе в Вильмерсдорфе, долгие годы находилось средоточие его мира. Художник работал, окруженный мебелью, которую сам соорудил из расписных сундуков. Вдоль стен выстроились пустые бутылки, этикетками с которых он украшал стены. С лампы свисал большой черный паук, сделанный из проволоки. Осколки разбитого зеркала, размещенные по всему ателье, бросают раздробленные отражения на многочисленные фотографии на стенах; среди прочих — фото автомобильного миллионера Генри Форда с посвящением, которое Грос сам приписал. Грос преклонялся перед Фордом и вообще перед всем, что приходило из Америки: регтайм, золотоискатели, доллары, небоскребы, бокс, неоновые лампы, бурбон, томагавки. Его пристанище выглядело «как ярмарочная палатка», отапливалось оно газовым автоматом, который запускался с помощью десятипфенниговых монеток, брошенных в щель.
Когда новости об окончании боевых действий на западном фронте достигают столицы рейха — Берлина, Гросу все равно кажется, что война по-настоящему никогда не кончится. «А может быть, она вообще никогда и не заканчивалась? У нас объявили мир, но далеко не каждый был пьян и счастлив. По сути своей люди остались прежними, но с некоторой разницей: некогда столь гордый немецкий солдат превратился в побитого, уставшего от войны солдата, а народная армия распалась так же быстро, как хлопчатобумажные униформы и патронташи из кожзаменителя. То, что война была проиграна, меня не расстраивало. Меня расстраивало исключительно только то, что люди эту войну годами терпели и выносили, что тем немногим голосам, которые выступали против массовой бойни, никто не внял».
Сам Грос мировую войну не вытерпел и не перенес. Если говорить точно, он благородно провел это время в горизонтальном положении. Первый призыв он пропустил из-за воспаления придаточной пазухи носа. На пути второго призыва встал — настоящий или разыгранный — нервный срыв. Он был найден в полубессознательном состоянии, c головой, засунутой в унитаз. Георг Гросс, как он тогда еще себя именовал, поступил в лазарет, потом в лечебницу, где его пичкали «сушеными овощами» и «капустно-свекольным кофе», «серыми военными булочками» и «серо-зеленым искусственным медом». Он, воспринимавший восхищение войной у своих соотечественников в 1914 году как пандемию, ни в первый, ни во второй призыв не видел фронта собственными глазами. Но даже позади всех линий фронта он различал следы опустошения, разрушения, уязвимости и смерти, оставленные войной. Грос зарисовывал в блокнот все, что с ужасом видели его глаза. «Для меня мое „искусство“ было тогда чем-то вроде отдушины — клапана, чтобы выпустить пар, — писал он в своей автобиографии. — Если было время, я давал волю своему негодованию в рисунках. В блокнотах и на почтовых конвертах я набрасывал эскизы того, что меня больше всего не устраивало: звериные лица товарищей, злые инвалиды, надменные офицеры, развратные медсестры и т. д.». В зарисовках и живописных работах главным для него было «запечатлеть смехотворность и гротескность окружающего… мира деловитых, смертельно обозленных муравьишек».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу